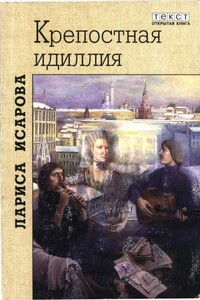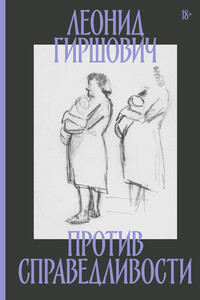Ранним июльским утром к перрону Лионского вокзала причалил поезд. Из него вышла супружеская пара Юра и Рая, туристы из Израиловки. Куда приезжий идет в Париже первым делом? Ну ясно куда — на Эйфелеву башню. На маковке безе всегда затвердевший стоит миниатюрный чубчик Эйфелевой башни. Сбитым сливкам, сливочному крему ее конструкция — родственна. Кондитерская «Париж» в сознании черт знает какого непарижанина завихряется Эйфелевой башней — поэтому он бежит скорее слизнуть ее. Желтый венгерский чемодан они оставили на кровати (а трахнуться в Париже тоже неслабо) своего сорокафранкового номера; снять его удалось с первого захода — в Венеции так сразу, например, черта с два найдешь. В смысле, за такие бабки. Впрочем, если не сразу, то и подавно не найдешь — разберут. Итак, чемодан на кровать, рядышком совокупнулись и побежали.
Париж в острослепящем утреннем солнце остается поверх голов тех, кто спешит попасть со станции (по слогам) «Гаре де Лион» на станцию «Бир Хакеим».
— Это что, арабский район?
— Откуда здесь тебе арабский район. — Юра подавил раздражение — еще успеется. — Так… смотри, где пересадка.
Они водили поочередно пальцами по схеме цветных артерий, вывешенных у кассы.
— «Гаре де Лион», «Бастилле»… смотри, видишь, куда идет — до «Гаулле-Этоиле», а тут ссаживаемся на малиновую и до этого «Бира».
— Как Бир-Зайт, — сказала Рая в оправдание глупости, которую сморозила.
Они ехали. «Цхателет», «Рояль» какой-то — торопливо сличали они названия на плане внутри вагона с названиями на стенах мелькавших станций. Что-то им должно было заменить ариаднину нить в этом лабиринте (каковы суть норы метрополитена для непосвященного, для самца и самки гомосоветикуса), раз они не спутали «переход» с «выходом», нужное направление с противоположным и т. п. Вероятно, их путеводной нитью было что-то другое, какой-то антинюх, антиинстинкт, который влечет зверя к капкану (почему к капкану — об этом дальше). Они вышли из метро, свет брызнул в глаза опять, — ангелы разрезали лимон к утреннему чаю… (И тут в кромешной лазури парижского июльского утра (1973 г.) приходит на память, как на недавней родине в пижонских местах кружочки лимона клали в чашечки с черным кофе.) По левую руку был берег Сены, дома на набережной заслоняли Эйфелеву башню, которая была совсем рядом, до нее было совсем рукой подать.
— Вот она, Юрка!
За углом открылось что-то вроде Марсова поля в Ленинграде. И дыбом стоял железный «чубчик казэ»[39] на макушке (метафора с учетом, что здесь — макушка) развеселого — разноцветного — вертящегося — праздничного — земного — шарика. Наша рукотворная, но неповторимая Эйфелева башня. И к ней стекаются со всех концов японцы, корейцы, американцы, да и свой брат мусью — французы приезжают в столицу в каникулярное время с детьми со всех уголков своей великой отчизны. Все стремятся на эту ВДНХ — по двое, по трое, побольше, туристскими автобусами с надписями на всех западных языках: японских, корейских, американских — особенно же немецких. Много фотографируются, особенно японцы. А солнце, так оно что над рвущей цепи Африкой, что над ВДНХ, что над Эйфелевой башней — всюду оно солнце новой жизни.
Гирляндами висели флажки, звучала музыка. На стадионе справа (они, Юра и Рая, даже отвлеклись от главного зрелища) играли в мяч. Несколько человек игроков, даже, кажется, всего четыре — все в полосатых до колен трусах и таких же футболках (как в пижамах, бля), усатые, с прямыми проборами, мяч ручной — совсем дрессированный. Ну точно, сумасшедшие на прогулке… впрочем, кажется, снимали кино. (Филипп де Брока: «Le Roi de cœur».)
Они стояли промеж четырех надежно расставленных ног Эйфелевой башни, под самой промежностью, вознесшейся на триста метров, — вглядываясь в нее, как и остальные в толпе. Железа пошло столько-то, бюст Эйфеля у северной ноги позолотою достоин конкурировать с бюстом Ильича в вестибюле дома культуры (только, наоборот, приоритет был у Эйфеля, о чем не знали Юра и Рая; сперва был выкрашенный Эйфель, а потом — крашеные Лукичи, девушки с веслом). По одной ноге полз наверх лифт, забитый довольными блошками, уже свое получившими. Еще б