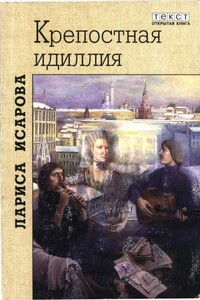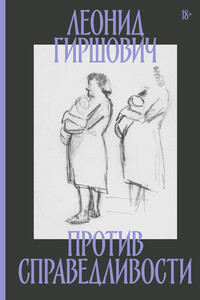— И я-я т-тебя п-п-приговорил, Иосиф Сталин. Р-рас-стрел. — И выхватывал из-под мышки свой деревянный автомат и давал очередь: — Та-та-та-та-та-та-та. — Но, выпивший, он мазал. И тогда снова: — Я т-тебя п-п-при-говорил, Иосиф Сталин, к расстрелу. Та-та-та-та-та-та-та. — И снова: — Именем нар-рода. Я тебя приговорил…
Я подошел к нему и сказал:
— Старый солдат, твой майор клянется тебе, что он отомстит за тебя.
Вскоре майор Еремеев вступил в Москву. К тому времени враг уже был напуган смертельно. Он скрывался от правосудия в подземном дворце из железа, внутрь которого вел всего лишь один ход, но зато имелось множество потайных выходов. Днем и ночью гудели электрические провода, вспыхивали лампочки. Глухонемые диспетчеры принимали и передавали сигналы. Слепые механики конструировали машину, которая могла бы пожирать будущее. Сталин неумолимо обрастал кольцами лет. Уже семьдесят три насчитывало их тело его, и безглазый косец мерещился ему в каждом предмете. Как мучился он страхом смерти! Даже в полночь, когда все люди спали, его не мигающие от ужаса глаза по-совиному горели, будто бы среди черных ветвей. Три стены он воздвиг вокруг себя. Первую составляли обманутые, они выедали в хлебе мякиш, пили кипяток и носили передачи. Вторую составляли обманщики, они разворачивали бутерброды, пили кровь и носили синие галифе. И третью — собаки с человеческими именами. Они носились по всему дворцу, размахивая огромными, подобными змеям, хвостами. Попадались среди них и с львиными гривами, и с тремя головами — у этих последних кончики красных языков, свисавших из раскрытых пастей, обычно слипались. Стало ли страшно майору Еремееву? Ни чуточки. Было ли трудно майору Еремееву? Неизреченно. Но на то и был он майор, на то и горели в малиновых уголках его воротника майорские ромбы, чтобы прорвать все круги оцепления, и там, где майорство его спотыкалось, приходило на помощь отцовство.
С обманутыми (шепотом):
— Слушай.
— Что?
— Дай пройти.
— Не-е.
— Что «не», что некаешь, дурак…
— Что? Обзываться? Так я живо…
— Да тише ты. Передачи носишь?
— Ну…
— Я пронесу.
— Да нельзя мне, пойми.
— Что «нельзя», давай показывай, что у тебя?
— Да вот иголка, яичко…
— Больше ничего?
— Заварочки немного.
— И все? Бедно живешь.
— Что?! Агитируешь? Я, знаешь, быстро отправлю, куда следует.
— Да ладно тебе. Водку пьешь?
— Ох…
— Что заохал, пьешь или нет?
— Пью, мил человек, пью.
— Пропустишь, тогда дам.
— Ох… искуситель.
— Да что ты боишься? Живет хужее собаки, чай пустой пьет, кукишем хлебным закусывает, а еще боится.
— Опять за свое? Опять агитируешь? Сейчас сообщу, кому надо.
— Да погоди ты. Скажи лучше прямо, за водку готов пропустить?
— Готов. Готов, милый человек. На все за нее готов.
— Тогда забирай и будь здоров.
— До свидания, папаша… постой ты, совсем забыл, как с передачкой-то?
— Ну, суй сюда… да не пей хоть на посту, дождись смены.
— Отстань.
— Засудят же.
— От-стань, говорю, идешь и иди. Эх, все равно пропадать.
Так миновал я первый пояс обороны Москвы. Дальше стояли отборные части. С этими разговор короткий.
— Кровопийца!
— Чего… ах ты, старый хрен! Я думал, свой кто зовет. Да я тебя, батя, за «кровопийцу»… Эй, Андропов!
— А у меня гостинец.
— А ну покажь какой? Андропов, принеси-ка, голубчик, свеженьких газет.
— Ты, душегуб, только и знаешь, что кровь пить, а вот кока-колы не хочешь?
— Отец… ты шутишь… настоящая кока-кола?
Оставался третий пояс, где человеческой власти приходит конец и начинается царство собак. Они рычали, носились поодиночке и парами, как в упряжке, высматривали что-то вдали. Иногда, чтоб лучше видеть, одна становилась передними лапами на спину другой. Едва я появился, вся свора кинулась ко мне. Впереди, стуча лапами, скакало трехголовое чудовище, склеенные слюной языки высунулись красным трезубцем. На мгновение они разлетелись, задев о камень, но тут же стрезубились вновь.
— Не меня! Не меня! Того, кто пропустил! — только и успел крикнуть майор Еремеев, чтобы хоть на мгновение наполнить оторопью собачьи извилины, а уж как этим мгновением воспользоваться, тут его учить не надо было.