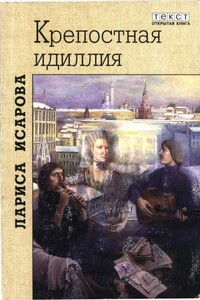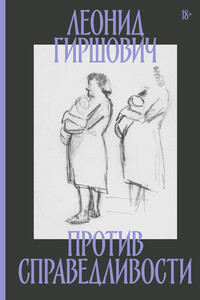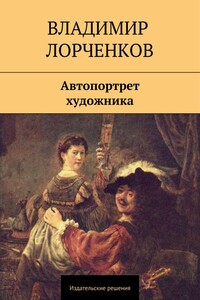Нельзя сказать, что чтению я уделял мало времени. Но я перечитывал одни и те же книги, а в них — одни и те же места. Как и в мечтах, до бесконечности примерял на себя одну и ту же сцену из фильма или неделями мог слушать «Неоконченную» Шуберта.
Не успел я закрепить между сахарницей и тарелкой многостраничный том, весь в брызгах былых трапез, как стук из коридора:
— К телефону!
— Мама, телефон!
Комната была поделена на две. Злата Михайловна, моя мама, быстро вышла и так же быстро вернулась.
— Тебя.
Кто мне мог звонить…
— Алё?
— Это я, Лара.
Прозвучало дико: «Я — Лара». Как будто превращена злыми чарами в телефонную трубку. («Я — концерт Мендельсона», — говорит о себе концерт Мендельсона в немом музыкальном фильме «Рапсодия».)
— Ты Юру видел? Он что-нибудь сказал?
— Нет.
— Вообще ничего? Даже не спросил, где я?
— Нет. А ты что, заболела?
— «Заболела»… Слушай, можешь сейчас поехать к нему и сказать то, что я тебе скажу?
— Сейчас? — Я загорелся, представив себе, как вдруг появлюсь. Решит, умерла. Перед смертью дала его адрес. — А почему ты не можешь позвонить?
— Мне нельзя.
— А мой телефон как ты узнала?
— Узнала, и все. Так что, поедешь? Мне это очень важно.
Может, женат? Один женился на первом курсе. Первые курсенята пошли. Ян, от которого молодожен вероломно перебежал к Вайману, злорадствовал: «Коркин-то кормящая мать, а? После восьми уже не звони, дети спят. Михалзрайлича можно поздравить с таким приобретением».
— А если меня не пустят, поздно, скажут?
— Это страшно важно. Скажешь, случайно чужие ноты взял.
— Ну вот и отнесешь завтра, скажут.
— А ей завтра с утра заниматься надо, она на концерте играет.
— А если спросят, как зовут да телефон? Ты мою маму, Злату Михайловну, не знаешь: «Хочу позвонить родителям, почему это тебя ночью куда-то гоняют…» Погоди…
Но это вышла соседка из уборной, а мне и впрямь чудится мама.
— Тогда дашь мой телефон, я подойду и скажу, что ты случайно взял мои ноты в библиотеке. Записывай.
«Этюд номер Невский 77» назывались случайно взятые мною ноты.
— Так тебе и поверят. Скажут: врунья. А ехать-то куда?
— Это на Правде, совсем рядом. Дом шестнадцать, квартира двадцать. На третьем этаже, дверь слева. Грачев. К ним два звонка.
— Ты была у них? А как же его жена?
— Какая жена? Он студент.
— Ни о чем не говорит. Коркин тоже студент. Жениться и детей наделать — много ума не надо.
— Дурак! Он с матерью живет.
— Без отца?
— Без. Не у всех отцы Ташкент обороняли.
Дала сдачи дураку? Потому что — потому… Или в меня случайно отлетело? Я счел за лучшее проглотить. Она же не сказала: «Это евреи Ташкент обороняли». Я и так набивал себе цену — еще перехочет.
— Что сказать-то надо? — Я уже предвкушал его реакцию: вдруг я в дверях… Ух!
— Ты вручишь ему книгу.
— Какую книгу?
— Ну, книгу, которая у тебя. Скажешь: Лара не знает, когда она поправится. И поправится ли вообще. Скажешь: пусть Венус всегда напоминает о ней. И больше ни слова. Повтори.
— Пусть Венус всегда напоминает о ней… А что с тобой?
— Я же говорила, что я — больна. Хочешь проникнуть в чужую медицинскую тайну?
— Не хочу.
«Чужой земли мы не хотим ни пяди…» И детектор лжи не зашкалило — я и вправду считал этот альбом своим.
— Я в любую минуту могу оказаться на кладбище.
Жаль, все-таки я к нему привык. Ничего не поделаешь: никто не забыт, ничто не забыто. Но если она действительно умрет, то возвращать альбом глупо.
— Да сейчас от всех болезней лечат.
— Много ты знаешь.
Я не верил. Раз в тысячу лет, конечно, и не такое бывает. Когда-то мы с Клавой читали «Даму с камелиями». Не хуже, чем автопортрет в форме обер-лейтенанта с партизанкой на коленях. То место, когда он примчался на кладбище. Вся школа во главе с Сергеем Васильевичем уже проводила ее в последний путь, на прощанье отсалютовав гайдаровским салютом. Но он должен, должен ее увидеть! Пусть с забитым землею ртом. О, Лара…
Раз в тысячу лет бывает всякое. Начну сейчас заниматься по пять часов и поступлю в Первый состав (в «Рапсодии» скрипач занимался по двенадцать). Побываю во Флоренции. Я должен, должен ее увидеть. «Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря».