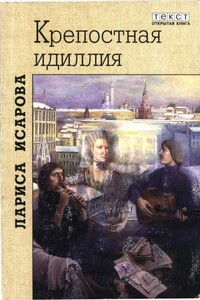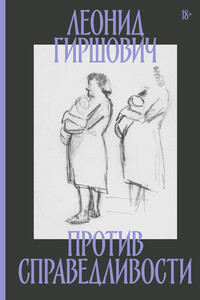Чудо еще, что после выстрела зубы остались целы. Залитого кровью, в абсолютном нокауте, Муню унесли — в душе дивясь, что такое могло произойти с иностранцем: в глазах испанцев заграничное всегда лучше; но и по той же причине если не радуясь, то про себя злорадствуя, ибо особого расположения к чужакам, явившимся невесть откуда, невесть по чьему приглашению, среди их испанских однополчан тоже не наблюдалось. (Потому же испанец мог обожать тебя в глаза, а за глаза поносить, делая то и другое от всего своего испанского сердца.)
В лазарете при штабе полка, куда его дотащили на носилках (расстояние четыре километра), Муня пролежал четыре дня с необычным диагнозом «сотрясение челюсти». К тому времени он уже был не вполне тем Муней, которого на Ленинском плацу хлопнуло по лбу учебной гранатой. Между первым и вторым ранением накопилось много впечатлений — все они, как нетрудно догадаться, были не в пользу идеального социалистического братства. Говоря просто и прямо, Муне приходилось постоянно зажимать нос. Сказывалась не только привычка к канализации. Известное Мунино высокомерно-презрительное отношение к разным там «матерьяльностям» (также и помимо благоприобретенных — все понятно?), дома выразившееся в неоригинальном революционерстве барчука, имело где-то глубоко в основе своей личную брезгливость: дух брезговал плотью, и это когда кругом все обслуживают человечье мясо, молятся на него — каждый на свой лад, кто с помощью гинекологических инструментов, другие, как Annette, всю жизнь искавшая (по Муне, так с самого рождения) себе мужа. Но вот выясняется, что то же и у революционных бойцов: революция прекрасно согласовывалась с их физиологией. Последней они дорожат не меньше, чем первой; в этом они были чистыми буржуями — вместо того, чтобы очистить себя революционным парением. Муне трудно было объяснить словами, но он чувствовал: повсеместные нечистоты, жирная, отвратительного вкуса пища, невозможность напиться простой воды, а вместо нее хождение по кругу этой фляжки, из которой бьет винная струя такой силы, словно из коня (покуда мы стояли в Барселоне, это была самая страшная пытка: к обеду только вино, с водой плохо), так вот, он чувствовал, что не случайно все это — то, что так мучительно ему видеть, обонять, есть. Тут свой страшноватый смысл, а не — как он себя уговаривает — усугубление нарыва, перед тем как прорваться и гною уйти раз и навсегда. С гноем уйдут тогда и Педро, и Рамон, и Роке, и Хаиме, и Себастьян, которые очень привязаны к своим телам. Значит, на смену прежней гинекологии — толстых — грядет новая, хуже, потому что без антисептики. И потом, что уж совсем не лезло ни в какие ворота, — то, что революционеры друг у друга крали. Собственно, когда его обокрали — кошелек с недельным жалованьем и банку сливочных бисквитов, купленную в дорогой кондитерской, — Муня и обиделся на Революцию. Он дулся на нее несколько дней, потом простил, потом снова что-то произошло, он снова оскорбился. Да и на фронт их тоже отправляли не как прежде — в городском парке позади Plaza de España устраивался митинг, с цветами, с музыкой, женщины подбегали к уходившим строем ополченцам, суя каждому что-то «на дорожку». Нет, их увезли ночью, тайно — как гроб с Пушкиным. Причины столь унизительной конспирации были яснее ясного: городские власти теперь старались потрафить не рабочим дружинам, а недавно созданной буржуазной Народной армии. В результате был недополучен заряд-другой революционного воодушевления, который поддержал бы Муню в тряском, тоскливом, а главное, безводном — по вагону гулял все тот же «паррон» с вином — пути на фронт.
Политические новости из тыла на театр военных действий поступали с опозданием, а то и вовсе не поступали — это всегда было и будет, какой-нибудь Оглы Мирзаевич будет бежать с криком «Уррра!», а в ту самую минуту его жену, детей и весь его родной аул сажают на грузовики, и Москва кует за указом указ. Конечно, Сарагосский фронт был не так далек от Барселоны, как Кенигсберг от какой-нибудь Халды-Балды, тем не менее ни Муня, выписываясь из лазарета, ни его соратники в окопах не знали, что в этот день в Барселоне, после недели спорадических перестрелок, сопровождавшихся расковыриванием брусчатки, ПОУМ был объявлен вне закона, а его сторонники разоружены и арестованы. По-прежнему над их позицией, когда Муня возвращался, реяло красное знамя с буквами П.О.У.М. Андалузец, осмотрев Мунину челюсть, отмеченную следами мастерского удара, решил сделать товарищу приятное. «Тот фашист после твоего выстрела уже больше не показывался, — сказал он. И прибавил, подумав (о том, наверное, что доставленное товарищу удовольствие все же следует приправить дегтем): — Надеюсь, что пуля прошла достаточно близко, чтобы фашист подскочил».