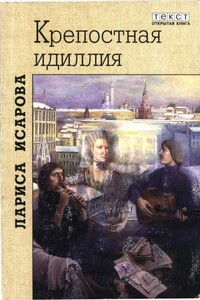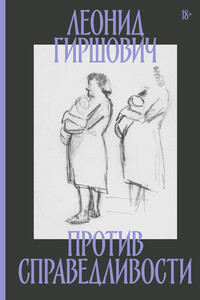Шаутбенахт - страница 109
A-а! Палец перестал ощущать кожу лица, сразу за кончиком носа начиналась… Мне жутко! Мысль уже вполне сделалась здравой: ранение, тело цело и невредимо — голова. Только ею и не осмеливаешься качнуть. Палец полз по бесчувственной шершавой круче бинта, очевидно толстой горой обматывавшего середину лица: щеки, нос, брови. На лбу снова обозначилось щекотание пальцев. Ах, вот оно что… Панически рука ощупала уши, затылок, провела по макушке. То, что стряслось, — стряслось по обе стороны переносицы. И сие не сон. Обеими ладонями закрыл раненый лицо… убедился: вместо глаз выпучены бинты. Выпучены так, что никакой возможности нет понять, уцелело ли что-то под ними. Оставалось лишь слушать боль. Исследовать ее, ухватить за ниточку, проследить, откуда тянется. Боль была переливающейся, головной — в сущности, хорошо знакомой. Ее нельзя было локализовать, это обнадеживало. Во всяком случае, к глазницам она не заострялась. Нет-нет, под бинтами ничего не болит, ничего не чешется, никакого жжения… или… может, именно немножко жжет? Да Боже мой, не всякая же повязка означает слепоту. Только бы узнать скорее правду.
Муня не решался стоном или словом призвать на помощь незримый медперсонал. Своеобразная гордость мешала это сделать — звать неведомо кого, авось услышат. Это ведь то же самое, что кричать «караул!» посреди темной улицы. Муня скорей позволит себя зарезать, чем закричит «караул!». С другой стороны, если глаза забинтованы, то как же они узнают, что я пришел в чувство. Он нашел способ дать им об этом знать, не унизив себя. Вполголоса запел он:
«Заткнись», — раздалось из-за Муниной правой ноги — довольно далеко. Наверное, это был какой-то тяжелораненый, от физических страданий разочаровавшийся в Революции. Снова стало тихо. Муня прислушивался, он чуял людей около себя, таких же, как он, безмолвно-напряженных. «Заткнись» донеслось издалека, а весь промежуток мог быть выложен другими ранеными, посдержанней.
А лежал-то Муня не в помещении, а прямо на земле: незабинтованные лоб, подбородок, губы были подставлены жаркому, как из пустыни, ветру. Под рукой травка, камни, комья, что-то укололо в ладонь — осколок стекла? Осторожно. Голова низко, едва ли не запрокинута.
Муня смутно припоминает, что это уже когда-то было: санитары спешат с носилками, окровавленные, перевязанные наскоро раненые — кто сидит, кто полулежит, а кому совсем плохо. С завязанной головой седоусый ветеран удивленно смотрит перед собой, а молоденькому солдатику — тому совсем плохо. Вдали тенями проезжают главнокомандующий со свитой на лошадях. Один офицер обернулся в сторону раненых, но внимание остальных поглощено происходящим в долине сражением. Вопрос: что это и где ты это видел? Опрометчиво Муня загадал: вспомнишь — все уладится…
Но мысль не клюнула. Гнездо, где роятся мысли, гудело болью — мысли ее, эту боль, истолковывали: где она расположена, непосредственно ли под повязкой? Но так как это была не единственная боль, не один голос — их была разноголосица, — то задача казалась непосильной. Нельзя, чтобы все сразу бросились ловить всех, — надо разделиться: одни заняты поимкою одного, другие — другого. В стратегическом отношении план идеальный, но Муня опрометчиво — миллион раз опрометчиво — загадал: если вспомню, все будет в порядке с глазами… (Речь о полевом лазарете: седой воин обиженно таращится перед собой, раненые — на траве, продолжавшейся объемно до самых Муниных ладоней… Ну где же ты это уже когда-то видел?)
Опрометчиво — ставить условия своей памяти, никогда она их не примет, только с ума сведет. То были танталовы муки чистой воды: безымянное воспоминание бывало почти что узнано, когда ускользало в последний момент. Оставалось искать по квадратам, другого способа нет. Надо свою жизнь разделить на квадраты… Извиняюсь, а что, если такой же метод использовать в поисках болевой точки в голове? Тоже разлиновать ее как глобус… Это голову-то? Голову, да. И квадрат за квадратом идти. Голову не получится, Муня.