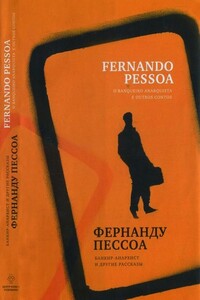Помню, как на следующий день, в самый канун самоубийства Сибил, я сидел за столом, стоявшим на возвышении в большой классной комнате, где происходили зимние испытания по французской литературе. Сибил пришла на высоких каблуках, с чемоданчиком, бросила его в угол, где уже валялось несколько сумок, легко поведя худыми плечами, стряхнула с них шубку, сложив, примостила ее на чемодан и вместе с двумя-тремя девушками подошла к моему столу — узнать, когда я смогу прислать им работы с оценками. Мне потребуется неделя, считая от завтра, сказал я, чтобы все прочитать. Помню еще, я гадал, сообщил ли ей уже Д. о своем решении, и испытывал острую жалость к прилежной маленькой студентке, пока на протяжении ста пятидесяти минут мои глаза все обращались к ней, такой по-детски хрупкой в облегающем сером платье, и разглядывали старательно завитые темные волосы, мелкую шляпку с меленькими цветочками и стекловидной вуалькой, какие носили в тот сезон, и под ней — мелкое личико, на кубистский пошиб изломанное шрамами, оставленными кожной болезнью и трогательно замаскированными искусственным загаром, ужесточавшим ее черты, очарованью которых она еще повредила, раскрасив все, что можно раскрасить, так что бледные десны между вишенно-красными потрескавшимися губами и разжиженная чернильная синева глаз под утемненными веками только и остались просветами в ее красоту.
Назавтра, по алфавиту разложив уродливые тетради, я погрузился в хаос почерков и преждевременно добрался до Валевской и Вэйн, чьи тетрадки невесть почему поместил не туда, куда следовало. Рука первой приукрасилась по случаю некоторым подобием удобочитаемости, что до работы Сибил, в ней, как обычно, сочетались почерки нескольких демонов. Она начала с очень бледного, очень жесткого карандаша, заметно тиснившего чистый испод листа, но мало что оставлявшего на его лицевой стороне. По счастью, кончик карандаша скоро сломался, она продолжала писать другим грифелем, потемнее, и он мало-помалу сообщал расплывчатую полноту линиям, напоминавшим набросок углем, к которому она, мусоля тупой конец, добавляла следы губной помады. Ее работа, хоть и оказавшаяся еще хуже, чем я ожидал, несла все приметы своего рода отчаявшейся старательности — подчеркиванья, перестановки, никчемные сноски, как если б она желала покончить дело по возможности самым добропорядочным образом. В конце она приписала, заняв у Мери Валевской самопишущее перо: «Cette examain est finie ainsi que ma vie. Adieu, jeunes filles! Пожалуйста, Monsieur le Professeur, свяжитесь с ma soeur[1] и скажите ей, что Смерть не лучше двойки с минусом, но определенно лучше, чем Жизнь минус Д.»
Ни минуты не тратя, я позвонил Цинтии, и она сообщила, что все кончено — все было кончено еще в восемь утра, — и попросила привезти ей записку, и когда я привез, просияла сквозь слезы в гордом восхищении тем, какое причудливое применение («Это так на нее похоже!») отыскала Сибил для экзамена по французской литературе. Она мигом соорудила два хайболла, не расставаясь с тетрадкой Сибил, — уже обрызганной содовой и слезами, — и продолжала изучать предсмертное послание, что побудило меня указать ей на имеющиеся в нем грамматические ошибки и объяснить, как приходится переводить в американских колледжах слово «девушка», дабы не заставлять студентов слепо толочься вокруг французского эквивалента «девки», а то и чего похуже. Это довольно безвкусное суесловие доставляло Цинтии огромное удовольствие, когда она, задыхаясь, выныривала из-под вздувающейся поверхности горя. А затем, держа мягкую тетрадку так, словно та была пропуском в нечаянный Элизиум (где карандаши не ломаются, а мечтательная молодая красавица с безукоризненной кожей навивает локон на мечтательный пальчик, размышляя над какой-то небесной экзаменационной работой), Цинтия повела меня наверх, в мозгловатую спальню, просто чтобы показать мне, как если б я был полицейским или участливым соседом-ирландцем, два пустых пузырька от таблеток и скомканную постель, откуда уже убрали нежное, ненужное тело, которое Д., должно быть, знал до последней бархатной малости.