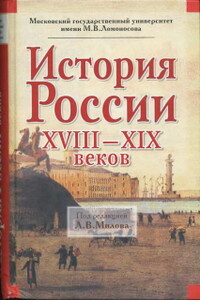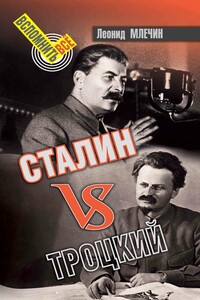Карамзин увидел в Уварове опасного конституционалиста. И ошибся. Уроком, для карьеры спасительным, послужил погром Петербургского университета, в 1821 году устроенный мракобесом Руничем, когда гонениям подверглись достойнейшие профессора — Константин Арсеньев, Александр Галич, Карл Герман, Эрнст Раупах. Обвинения, им предъявленные, были бессмысленны и непристойны. Уваров — что поделать, либеральная репутация обязывала! — обратился к царю с письмом, почтительным и твердым, которое не стыдно было показать арзамасцам: «Среди 19-го столетия, на 20-м году царствования вашего императорского величества, в 30-ти шагах от вашей царской резиденции осмелились произвести среди ночи страшный террор, оскорблять честь учреждения, созданного вашим величеством, угрожать разжалованием в солдаты мирных студентов, которых не удалось возмутить, угрожать им тюрьмою и Сибирью, вынуждать от них разные кощунственные присяги… Что же это за процесс, государь, который требует для своего торжества подобных средств?» Обращение, как и следовало ожидать, осталось без ответа, с местом попечителя пришлось расстаться. Кресло президента Академии наук Уваров сохранил, впредь решил быть осмотрительнее.
В новое царствование либерализм Уварова улетучился, он бестрепетно выступил против «духа времени», о бесплодности борьбы с которым говорил прежде. Время высветило низкие стороны уваровского характера: он был мелочен, мстителен, нечестен, скуп; поступал, по выражению Пушкина, «как ворон, к мертвечине падкий». Соловьев, имевший возможность близко узнать Уварова, отзывался о нем как о подлеце, который весь замаран грязными поступками. Если и было в этих словах преувеличение, то незначительное. Соловьевская характеристика беспощадна: «Представляя из себя знатного барина, Уваров не имел в себе ничего истинно аристократического; напротив, это был лакей, получивший порядочные манеры в доме порядочного барина (Александра I), но оставшийся в сердце лакеем; он не щадил никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю». В начале николаевского правления Уваров входил в новосозданные комитеты, которые определяли, кому, кого и как учить в пределах Российской империи.
После 14 декабря 1825 года гимназический курс полностью пересмотрели. 13 июля 1826 года, в день казни декабристов, Николай I издал манифест, который возвещал о суде над государственными преступниками. «Горестные происшествия, смутившие покой России», манифест объяснял недостатками «нравственного воспитания» молодых людей и предлагал дворянству, «ограде престола и чести народной», предпринять «подвиг к усовершенствованию отечественного, не чужеземного воспитания». Был создан «Комитет по устройству учебных заведений», который выработал новый устав для гимназий, утвержденный в 1828 году. Устав был узкосословный, доступ в гимназии открывался прежде всего детям дворян. Главными предметами стали древние языки, «надежнейшее основание учености и лучший способ к возвышению и укреплению душевных сил юношей», и математика, служащая «к изощрению ясности в мыслях, их образованию, проницательности и силе размышления», за ними шли закон божий и российская словесность. Истории учили в старших классах, понемногу, с разбором. Ученикам объясняли, что древние греки жили в республиках, оттого и пришли в упадок, а Римская империя торжествовала. Политические науки были устранены, часы, отведенные на географию и физику, сокращены. Для улучшения нравственности гимназистов разрешались телесные наказания. Не наукам практическим, успехи которых определяли тогда ход европейской цивилизации, не философии, опасной для незрелых умов, учили в николаевской гимназии, в ней учили главной российской добродетели — повиновению. В тридцатые годы за этим зорко следил Уваров, назначенный министром народного просвещения в год, когда Сергей Соловьев поступил в гимназию. Николай I был доволен министром, который понимал правительственную политику в области просвещения как сочетание «доверенности и кроткого назидания» со «строгим проницательным надзором». Хорошо сказано, вполне в духе графа Бенкендорфа! Заслуживал поощрения Уваров и за умение сказать афоризм: «Не ученость составляет доброго гражданина, верноподданного своему государю, а нравственность его и добродетели. Они служат первым и твердым основанием общественного благосостояния». Именно — не ученость!