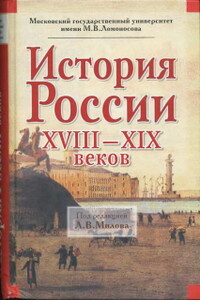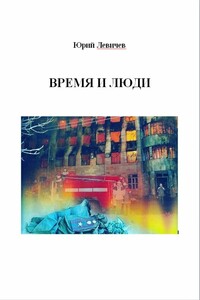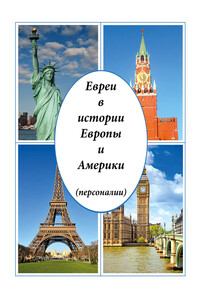Впрочем, нравы в Первой московской гимназии были несравненно чище, чем в духовном училище, а учили гимназистов лучше, чем воспитанников Коммерческого училища. Среди учителей встречались подлинные энтузиасты. Об одном из них, Павле Михайловиче Попове, скупой на похвалу Соловьев вспоминал: «С четвертого класса преподавателем русского языка был у нас Попов, учитель превосходный, умевший возбудить охоту к занятиям, прекрасно разбиравший образцовые сочинения и сочинения учеников, умевший посредством этих разборов достигать главной цели своего преподавания — выучивать правильно писать по-русски и развивать таланты, у кого они были». Как не посетовать на ту легкость, с какой забываются заветы русской педагогики, имена старых русских учителей. А ведь Попов учил словесности и великого драматурга Островского, окончившего Первую гимназию через несколько лет после Соловьева.
Чему учили в гимназии? При Муравьеве, когда за образец взяли французские лицеи, преподавали естественную историю, философию, изящные науки, физику, математику, естественное право, политическую экономию, иностранные языки, но не было, как ни странно, ни закона божьего, ни русского языка, которые изучались лишь в уездных училищах. Упущение заметил Уваров, попечитель Петербургского учебного округа, где он, едва вступив в 1811 году в должность, и произвел нужные изменения. Равнодушный к вере, молодой Уваров слыл либералом, в изящной словесности следовал, как и Муравьев, за Карамзиным и смеялся над литературными староверами. Но не забывал, что ему вверено воспитание российского юношества, и не выходил из границ, установленных для русского подданного и православного. Исправив оплошность ревнителей разума и европейской учености, он выказал проницательность и почти государственную мудрость. Уваров умело делал карьеру и, никогда не служив в военной службе, твердо намеревался сделать ее на ниве просвещения. Бог с ними, с муравьевскими понятиями о чистой совести.
В истории русской культуры и науки, в русском общественном сознании Сергей Семенович Уваров оставил след столь значительный, что короткое отступление, ему посвященное, необходимо и извинительно. Необходимо тем более, что в жизни Соловьева был период уваровский, когда он, гимназист, студент, профессор, находился в сфере уваровских предписаний, испытывал воздействие воззрений, им насаждаемых.
Уваров был умен, образован, серьезно занимался изучением классических древностей, писал работы по древнегреческой литературе и античной археологии. Вместе с Жуковским, Вяземским, братьями Александром и Николаем Тургеневыми, Блудовым, Дашковым, Василием и Александром Пушкиными входил в веселое общество «Арзамас», где его прозвали Старушка. Необидно прозвали — Вяземского нарекли Асмодеем, князем тьмы. Пером публициста Уваров сражался с Наполеоном, печатал брошюры, написанные по-французски, где выражал тонкую либеральную мысль, что «цари и народы на могиле Бонапарта совместно принесут в жертву деспотизм и народную анархию». Признавая республиканский строй, которого «как идеала требуют добродетельные люди», неприменимым к «современной системе великих европейских держав», он провозглашал общим европейским идеалом правления монархию, разумеется, не наполеоновскую империю, уродливое порождение революции, а правление законное, легитимное, при котором «мощные барьеры обеспечивают гражданские свободы личности». В 1818 году Александр I сказал в польском сейме речь, понятую его русскими подданными как обещание конституции. Как счастлив был тогда князь Вяземский! И как он был обманут!
Уваровским откликом на варшавскую речь императора стало выступление перед студентами Главного педагогического института. Политическую свободу петербургский попечитель назвал «последним и прекрасным даром бога» и убеждал слушателей в том, что опасности и бури, спутники свободы, не должны устрашать, ибо великий дар сопряжен с большими жертвами, приобретается медленно и сохраняется лишь неусыпною твердостью. Прекрасно звучала ссылка на неотвратимость исторического прогресса: «Все сии великие истины содержатся в истории. Она верховное судилище народов и царей. Горе тем, кто не следует ее наставлениям! Дух времени, подобно грозному сфинксу, пожирает не постигающих смысл его прорицаний».