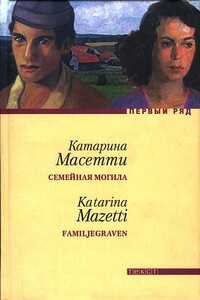Когда я была маленькой, мама всегда молилась вместе со мной перед сном. В то время детям на ночь не сказки читали, а молитвы. «Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости ми; мирен сон и безмятежен даруй ми».
Слова молитв отпечатались в моем сознании. Особенно мне запомнились слова о счастье. Я знала, что это так: счастлив тот, кого любит Бог. Чтобы стать счастливым, нужно сперва попасть в любимчики к Богу. И тогда счастье свалится тебе в руки как большой красивый мяч. Те же, кого Бог не любил, получали несчастье — тяжелый черный шар из железа. Это были уродливые неудачники с влажными ладонями. Я представляла, что у счастливчиков на лбу написано, что они любимы Богом. И гадала, какую цену мне придется заплатить за счастье.
Разумеется, я неправильно истолковала молитву. И не только я. Неправильно толковать слова было у нас в крови. Несчастье — это Божье наказание: так Он изливает на нас Свой гнев. Судит нас. Как же мне холодно! Я хочу покинуть свое тело. Здесь и сейчас. В горе и в радости. Отдаться беззащитности, которая свойственна всем людям. Взойти на борт корабля беззащитности, груженного до краев.
Горы смотрят на меня усталыми старыми глазами. Они подобны огромным животным, которые, кажется, чего-то ждут. Но они ничего не ждут. Они просто есть. Просто есть. Спрятавшись внутри себя, они видят все, кроме времени. Слои памяти в камне: впадины и возвышения. Как память и забытье, слившиеся в объятье, в крепком и долгом объятье. Горы живут не во времени, а в памяти, в ее темных коридорах, зовущихся забытьем.
Одна строка из молитвы продолжает жить, продолжает идти со мной в такт: позаботься обо мне, позаботься обо мне. В ней есть что-то необычное, что-то хрупкое, что-то, что мне только предстоит узнать. Что-то, что нельзя променять на око или ухо. Может, мне хочется, чтобы горы научили меня своему терпению, своей выносливости, своим странным снам. Я словно блуждаю в лабиринте, из которого нет выхода. Иду и думаю о паломниках, русских странниках, о которых я читала. И о Кристин Лаврансдоттер[3]. Теперь люди путешествуют на автобусе. Для них главное — достичь места назначения, не важно, каким образом. Раньше странникам хотелось вырваться из своей жизни. Они путешествовали месяцами, годами. Многие из них не вернулись. Они встречались на бесконечных дорогах и сразу узнавали друг друга. Всех их выгнали на дорогу одни и те же причины — тревога, стыд, невыносимость бытия.
Здесь только один странник — это я. В Хохае пусто. Может, это чей-то сон. Древний сон наяву. Если так, то я не хочу просыпаться. Я хочу раствориться в этом сне, как испаряется вода, превращаясь в облако.
Я вошла в эту дверь. Это было давно. Я оставила проснувшийся во мне крик в снегу и вошла в дверь, которая в тот момент казалась мне такой крошечной и незначительной. Я вернулась к детям, к моей жизни. И вскоре мы покинули тот маленький домик и переехали в другой. У нас было много дел. Мы терпеливо строили мир, в котором можно было бы жить. Но крик, который я слышала в то утро, оставил во мне след, продуваемую сквозняками пустоту.
Я была сильной. Очень сильной. Сила исходила не от меня. Это была не я, а моя воля: животное, притаившееся под моей кожей. Животное с блестящим мехом, сильными лапами, большими острыми зубами. Воля. Хищное животное. Сильнее меня. Это я произвела его на свет. И оно требовало пропитания. Ему нужно было много энергии на то, чтобы оставаться сильным.
Ничто так не ослабляет человека, как сила. Под конец я была настолько сильной, что от меня осталась одна сухая оболочка. Пустая оболочка для воли на двух ногах.