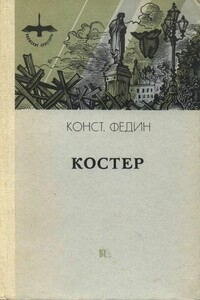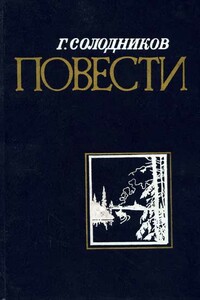I
За окном ночь. В ночь светит свеча.
Да. Так. Сначала разграбили усадьбу, потом пришли с повинной, выбрали командующим и сказали, что лучше смерть, чем коммунизм. Проведали, что два эшелона красноармейцев прибыло в уездный город. Проведав это, разошлись по избам.
Красные знают, что во главе восстания стоял он, поручик Жарков. Он — главный виновник. Только его одного ждет расстрел.
Да. Так. Все люди — предатели. И жить не стоит. Не стоит бежать. Бежать некуда. Бежать надоело. Нельзя всю жизнь бежать.
Поручик Жарков сидел у окна и глядел в окно. За окном была ночь, и свеча слепила глаза.
Большая семья, богатая усадьба, лицей, Павловское училище, война. Потом революция — и все разрушено.
Отец расстрелян, мать умерла, брат — в добрармии, товарищи исчезли с глаз почти все. Трое-четверо только в Москве таких же, как и он.
А лучший друг камер-юнкер Туманов ездит в собственном поезде. Лучший друг камер-юнкер Руманов — коммунист.
Поручик смотрел в окно. Ночь убегала в поле, в лес, и заря была светлее свечи.
Стук копыт в такт стуку сердца. Это они. Опять тихо. Неясный, как раннее утро, говор. Хочется спать. Опять стук копыт. Это они. Им указали, где он.
— Эй! Отвори!
— Отворено!
В комнату вошли красноармейцы — и лица у них были пасмурны, как раннее утро. Вошли красноармейцы — и комната сразу показалась тесной и маленькой.
Красноармейцы больно стянули веревками руки за спину. Ругаясь и толкая винтовками, вывели во двор. Один задел штыком за плечо, из плеча потекла кровь.
— Эй, ты! Это уже лишнее! Нужно перевязать.
— Зачем? Все равно же…
Приторочили к седлу — и снова тихо в деревне. Разведчики захватили главаря восстания.
II
В темном подвале светлого двухэтажного домика поп плакал, и молился, и коленями ворошил грязную солому. И три его дочери с соломой в распущенных волосах растекались в три ручья. Чекист, арестованный за грабеж, успокаивал:
— Я их всех знаю. Не беспокойтесь, батюшка. Вас выпустят.
Толстая дама то впивалась острыми ногтями в мягкие ладони, а спиной — в стену, то, осев и разрыхлившись, кричала:
— Неужели? Неужели? Этого не может быть! Неужели?
И тогда опять поп плакал и молился. И дочери его растекались в три ручья. А чекист, арестованный за грабеж, успокаивал:
— Берите пример с Назара.
Назар, мужик серый и спокойный, уписывал ржаной хлеб, жирно, в два пальца, намазанный маслом, и иногда угощал других. Осторожно ломал мягкий жаркий хлеб, чтобы не отдать слишком много. Хлеб, масло и яйца приносила ему его жена ежедневно утром. Половину брали конвойные, половину получал Назар.
Поручик Жарков шагал по камере из угла в угол. Френча не было — сняли. Волосатая грудь была прикрыта лохмотьями белой рубашки. Ноги были окровавлены о булыжники. Брюки изорваны; колени обнажены; на обнаженном плече — корка запекшейся крови.
Назар ходил на двор пилить дрова. Отдыхал, крутил цигарки и разговаривал с конвойным об урожае. Закурив, снова принимался пилить. Никто не знал, за что он арестован, и сам он не знал.
— Гражданин Жарков! К допросу!
Во втором этаже, в просторной комнате, дагестанец раскатился одной ногой по полу, другой зацепился за ножку стула. Смотрел на мир грозным оком, а под грозным оком — кровоподтек цветом и величиной с керенку.