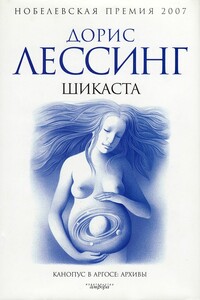— Клорати, я вот думаю, почему бы мне не записаться в школу Кролгула? Ему необязательно знать, что я не собираюсь на них работать, а хочу узнать только то, что мне понадобится.
— А что тебе понадобится?
— Стать неуязвимым для манипуляции словами. Что же еще?
— Ты что, действительно не понимаешь, какая разница между нашими методами, которыми мы стараемся тебя закалить против Риторики, и методами Шаммат?
Да, вот лежит тут наш Инсент, в унынии развалился, подложил руки под голову, ноги вытянул, черные глаза задумчивы, очень бледный. А тем временем молодой человек со Словина ораторствует:
— В чем, значит, состоит наша цель? В чем? Да всего лишь в том, чтобы…
— У них, похоже, обучение гораздо приятнее, чем у нас, — проворчал Инсент.
— Это ты точно заметил. Нашел нужное слово — приятное. Что может быть приятнее, чем власть или обещание получить власть? Когда мы тебе приукрашивали перспективы, а, Инсент?
Он горько усмехнулся:
— Нет, уж в этом-то вас не упрекнешь, Клорати. Но, возможно, я предпочту обучаться тому, что мне надо, в школе Кролгула. А не у вас! По крайней мере, у Кролгула мне не придется чувствовать себя презренным червем, когда ничем хорошим это оскорбление не компенсируется.
— Это верно, но ты станешь презренным червем, и это не будет тебе ничем компенсировано. Если ты прослушаешь курс обучения в школе Кролгула, Инсент, из тебя получится первоклассный мелкий тиран, я тебя уверяю, ты научишься стоять на любом пьедестале или кафедре, где угодно, вызывать слезы у толпы или подталкивать людей к убийству, управляя ими по своей воле, и не почувствуешь при этом ни тени угрызений совести или раскаяния. О, методы обучения Кролгула очень эффективны, и, конечно, в мои планы входило показать тебе его школу в действии, чтобы ты сам смог сделать кое-какие сравнения, но только когда ты внутренне настолько окрепнешь, что будешь в состоянии провести эти сравнения.
Инсент лежал и глядел на меня своими темными глазами, и пустота в них говорила, что его переутомление хоть и стало меньше, но все еще очень сильное.
— Здесь я встретил кое-кого из наших. Вон одна — как раз вещает сейчас. Я ее знаю, это агент 73.
— Да, но рано или поздно жизнь заставит этих людей задуматься, во что они превратились, и как ты думаешь, легко ли будет постепенно восстановить в них то, что они утратили? Инсент, ты в опасности. Может быть, даже в большей, чем любой из них. С твоим темпераментом, с твоими физическими наклонностями, с твоей способностью к самозащите…
— Спасибо, — сказал он театрально. — Надо же, как вы меня оснастили!
— Ну, и кто для тебя это выбирал, а, Инсент? Нет, не хочу я больше слушать жалобы на тему, что мол, по-твоему, свободная воля — это ошибка. В чем, по-твоему, разница между ими и нами? Это твой выбор.
В наступившем долгом молчании мы услышали, как какой-то юноша разливается соловьем: «Что нам мешает построить этот рай на земле? Мы все знаем, что ничто! В нашей земле заключено богатство — урожаи и минералы…»
— Прекрасно, — заявил наконец Инсент. — А вы тем временем пока будете лучше присматривать, верно?
Я отвел его назад, в гостиницу, и можете себе представить, с каким облегчением мы вступили в эту чудесную, прохладную, белую комнату, лишенную любых возбуждающих факторов.
Вот тут мы и отдохнули. Бок о бок в глубоких креслах с откидывающимися спинками. Я лежал на спине, он — на животе, уставившись на тусклую черноту пола через переплеты стула, и пришли в себя мы одновременно. Здесь было тихо, как в подземной пещере, так тихо, будто мы плыли в черном космическом пространстве между Галактиками. Узкая комната, высокий потолок которой доходил до самой крыши, и в куполе был источник неяркого света.
Вначале глаз различал только отблески кругов, треугольников, квадратов, ярко-белых на матово-белом фоне, и эти геометрические фигуры темнели, становились серыми, затем более тусклыми на белом фоне, который начинал мягко светиться. Изображения этого порядка оставались неизменными, так что взгляд мог переходить с одного на другое и при этом отдыхал, умиротворенный, успокоенный; но через какое-то время мозг начинал протестовать против монотонности, желать контраста, и как только понимаешь, что это отражает состояние твоего ума, — переход от острой необходимости к бесстрастному состоянию, — так взгляд снова приходит в движение, потому что там, вверху, в самой вершине тусклого свода, ему приходится охватывать уже не многогранники, а многоугольники. Они как будто неподвижно подвешены в воздухе, и непонятно, насколько они массивны и тяжелы, ты все еще считаешь, что твой взгляд притягивает шестиугольник или восьмиугольник. Но нет, они массивные, они плотные на едва отсвечивающем белом фоне. Сидишь в тишине и покое, нет никакого движения вообще, долгое время, очень долгое… А потом, когда беспокойный взгляд начинает требовать перемен, снова замечаешь смещение, четырехгранники превращаются в восьмигранники, а потом — блеск! — в те волшебные двадцатигранники, которые трансформируются в икосододекаэдры, и кажется, будто высоко над тобой в сужающейся полумгле твоего мозга крутятся сферы, заключающие в себе все светильники, трехмерные и двухмерные, так что двенадцатиугольники поддразнивают звездчатые многоугольники, а десятиугольник может переплавиться в двенадцатигранник, а тот вдруг растворится в пятигранник, который скромно выберет для себя форму куба. Хотя и это ненадолго…