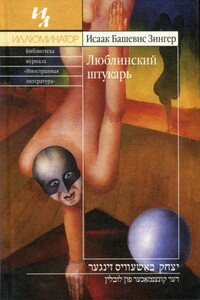Аделе испугалась собственных слов, но что сказано, то сказано.
Аса-Гешл опустил голову:
— Со мной каши не сваришь.
— Почему? Почему?
— Я нездоров. Физически и психически.
— Что верно, то верно. Нездоров. — Аделе ухватилась за его слова. — Потому-то я и не могу на тебя сердиться. На твоем месте я обратилась бы к психиатру.
— В таком случае к психиатру должны были бы обратиться все евреи до одного. Я имею в виду современных евреев.
— Может, тебе нужны деньги? Давай одолжу. Сколько тебе надо?
— Нет, Аделе. Я никогда не смогу с тобой расплатиться.
— И что же ты предполагаешь делать?
— Немного еще поиграю.
— С чем? — поинтересовалась она. — С человеческими жизнями?
— С чем же еще?
Оба встали.
— Ты причинил мне огромное зло, но не делай того же с Адасой. У меня сильные плечи; у нее — нет. Она этого не переживет.
У Аделе возникло странное чувство, будто кто-то говорит за нее. За нее говорила ее покойная мать, это были ее слова, ее голос, ее интонация.
3
Следующую ночь Аса-Гешл провел с Барбарой в доме коммунистки, польки, на улице Лешно. Чтобы дворник не заметил, что в квартире ночуют чужие, решено было прийти рано, до наступления темноты, когда ворота еще открыты, и уйти на следующий день поздним утром. В их распоряжении была маленькая темная комнатка с кроватью и покосившимся умывальником. В одиннадцать утра они уже ехали в девятом трамвае. Юрист, с которым Барбара консультировалась накануне, посоветовал ей вернуться домой как можно скорее, заявив, что чем дольше она будет скрываться, тем хуже ей будет впоследствии. В той же мере этот совет касался и Асы-Гешла. Барбара боялась, что не успеет она переступить порог отцовского дома, как ее немедленно арестуют; осведомитель наверняка будет поджидать ее или у ворот, или у входа в Саксонский сад. Юрист обещал, что в случае ареста возьмет ее на поруки, однако невозможно было предугадать, в чем ее обвинят, отпустит ли ее под залог прокурор.
Барбара сидела молча, сгорбившись, и смотрела в запотевшее окно, то и дело вытирая его перчаткой. Какую странную игру затеяла с ней судьба! Пока она была одна, никто ее не преследовал; теперь же, когда она обзавелась любовником, ей грозит тюрьма. Она попыталась успокоить себя тем, что жертвует собой ради пролетариата, но почему-то сегодня утром ее революционный порыв поостыл. В конце концов, все эти рабочие, грузчики, дворники, мелкие лавочники на рынках понятия не имеют, что в жертву она себя приносит ради них. А и знали бы — какая им разница! Взять хотя бы вот эту толстую краснощекую бабу, сидящую возле обувного ларька и жадно поедающую суп прямо из кастрюли. Ее муж, вероятно, сапожник, но что ей за дело до рабочего класса? У нее другие заботы: сбегать в церковь, приложиться священнику к ручке, отругать евреев и большевиков. После революции эта баба будет принадлежать классу избранных, а ее, Барбару, вполне могут обвинить в том, что она из семьи духовенства. С какой, черт возьми, стати должна она жертвовать собой ради этих людей? Она попыталась отогнать от себя эти буржуазные мысли. Больше всего сейчас она нуждалась в поддержке. Но кто готов ее поддержать? Она жалела, что вернулась в Польшу, что завела роман с этим мизантропом, у которого жена и ребенок и которого нисколько не волнуют судьбы человечества. Господи, знал бы отец, как ведет себя его Барбара! Он-то думает, что она еще девственница. Она закрыла глаза. За ночью любви неизбежно следует наказание, подумалось ей, — правильно написано в священных книгах.
На углу Крулевской Барбара сошла с трамвая. Она хотела поцеловать Асу-Гешла на прощанье, но оба были в шляпах с широкой тульей, и поцелуя не получилось; хотела что-то ему сказать, но не было времени. Она лишь стиснула его запястье и, уже на ходу, спрыгнула с подножки. Расталкивая пассажиров, Аса-Гешл бросился было к дверям, но разглядел в тумане лишь ее каракулевый жакет да бледный овал лица. Она помахала ему рукой и повернулась, словно собиралась побежать за трамваем, словно в последний момент пожалела, что с ним расстается. Трамвай набрал скорость и покатил по Новому Святу, пересек площадь Трех Крестов, Аллеи Уяздовские. Аса-Гешл стал вспоминать любовные утехи, которым они предавались прошлой ночью, — жадные поцелуи, объятия, страстный шепот, однако остался у него и неприятный осадок. Он припомнил, как Барбара, когда они выходили из дому, сказала ему: «Ну вот, ты и побывал в своей лаборатории счастья!»