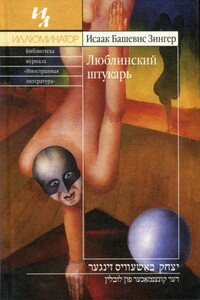1
Через несколько дней после начала войны на рыночной площади Малого Тересполя был зачитан приказ: всем евреям в течение двадцати четырех часов покинуть город. Началось смятение. Старейшинам еврейской общины городские власти объявили, что приказ пришел из Замосця. Два еврея из числа наиболее состоятельных домовладельцев, не мешкая, сели в экипаж и поехали в Замосць, однако «начальник» не пожелал даже с ними разговаривать. Приказ — велел передать он им — исходит от самого Николая Николаевича, дяди царя, главнокомандующего русской армией.
Те, у кого были лошади и повозки, сразу же стали собирать вещи. Другие пытались нанять или купить у окрестных крестьян любой имевшийся в наличии транспорт. Жившие в городке поляки вели себя так, будто все происходящее не имеет к ним никакого отношения, и, как ни в чем не бывало, занимались своими каждодневными делами. Живодер Маркевич резал свинью; мясник Добуш, как и прежде, собирал яблоки и молотил зерно. Сапожник Антек Лисс отправился в лавку кожевенника Мотла уговорить его продать ему партию кожи за треть цены.
— У тебя ее все равно отберут, — заявил он. — Ходят слухи, что будут убивать всех евреев подряд. — И он красноречиво провел пальцем по горлу. — Кх-кх-кх!
Еврейские домохозяйки бегали к своим польским соседкам поплакаться, но тем было не до них. Они месили муку, варили варенье, взбивали масло, изготавливали сыр. Женщины постарше пряли лен, а дети играли с кошками и собаками или копались в земле в поисках червей. Все они прекрасно обходились без евреев.
Некоторые еврейские домохозяйки пытались уговорить своих соседок взять на хранение их мебель, однако соседки жаловались, что места у них и без того мало. От одежды, белья, серебра и драгоценностей они, впрочем, отказываться не стали.
Глашатай зачитал прокламацию в понедельник утром, а к полудню вторника в городке не осталось и четверти евреев. Люблинский тракт был забит повозками, телегами и людьми. Еврейские мясники гнали перед собой скот. Те, что победнее, увязали свои немногочисленные пожитки и несли узлы на плечах. Свитки Торы из синагоги бережно сложили в телеге на солому, предварительно завернув их в талисы и в занавески Ковчега. Рядом с телегой, охраняя их, шли несколько мужчин и женщин. Крестьяне и их жены выходили на крыльцо; одни поили убегавших евреев водой из железных кружек; другие смеялись и кричали им вслед:
— Ой, ой, еврейчики! Папелле, мамелле!
Реб Дан с семьей покинул местечко одним из последних. Старик распорядился, чтобы книги из его кабинета спрятали на чердаке. С собой он взял лишь сумку с талисом и пару самых любимых книг. Свои рукописи он засунул в печь и стал смотреть, как они горят.
— Мир проживет и без них, — вздохнул он.
Раввин стоял, прислонившись плечом к дверному косяку, и смотрел, как горят его бумаги. За сорок с лишним лет, что он занимал место раввина, накопилось три полных мешка манускриптов и писем. Как ему удалось столько написать? Одно время он носился с мыслью издать кое-что из своих комментариев. Но то было в прошлом. Языки пламени делали свое дело без спешки. Отдельные страницы выбросило тягой из огня, и раввину пришлось подобрать их и бросить обратно. Толстый ворох рукописей занимался медленно; нужно было сначала разорвать его на отдельные страницы. В огне долгое время лежал, каким-то чудом не схваченный пламенем, пожелтевший ком бумаги. Когда же наконец вспыхнул и он, страницы какое-то время сохраняли свою форму, а огненные буквы точно бежали по тлеющим строкам.
Когда мешки с бумагами опустели, раввин вышел из дома к ожидавшей его повозке. Он поцеловал висевшую на дверях мезузу и напоследок окинул взглядом заросший чертополохом двор. Взглянул на яблоню, на черепичные крыши, на трубу, на окна, на шалаш, специально построенный для Праздника Кущей. Над крышей молельного дома застыл аист. В окнах играло золото солнечных лучей. Из трубы общинной бани поднимался дым; теперь, когда евреев из городка выгнали, ею будут пользоваться христиане. У богадельни все еще стоял катафалк. В повозке, среди подушек, поклажи и тюков с постельным бельем, уже сидели жена раввина, его дочь Финкл и ее дочь Дина. Старуха рыдала. Голова Дины была обвязана полотенцем. Ее муж, Менаше-Довид, пропал где-то в Галиции. Реб Дан влез в повозку и посмотрел на небо.