— Ну, и как оно живется?
— Та ну, как-то оно живется, — ответил скрипач и начал играть: скрип-скрип, труляляля, потом на мгновение прервался. — Перед войной оно хуже было, — произнес он. — При немце было плохо, потом, после войны, хорошо было, а потом снова плохо было, а сейчас, курва, уже и не знаю, так как утратил точку отсчета. — И снова заиграл. Громко, живо, фальшивя на всю катушку. — Ехал как-то с Енджейова, — запел он, — в грязи стала мне корова, по-людски стала признаваться, что будет мир весь распадаться, Польша будет лишь стоять, свое имя прославлять…
Скрип-скрип, труляляля.
— Оно ж, Польша, великой уже была, вся на свете власть ей была, будет власть еще иметь, славой будет вся блестеть!..
Скрып-скрып, труляляля…
* * *
Вот так оно, понимаешь, и есть.
* * *
А ты уже выезжал из города, вся Семерка была открыта перед тобой, ах, автострада на Варшаву, через изящные Сломники, незабываемый Мехув, Енджеюв, который «увидеть и умереть», Кельце — центральнопольскую метрополию, упругую Скаржиско-Каменну, размашистый Радом, гордый Уайтбэнкс, достойный Груец.
И ты увидал первое из семи чудес Семерки. Первое Чудо Семерки. Ты как раз проезжал под железнодорожным мостом, на котором граффити-художники нарисовали венскую победу и короля Яна[45]. Тебе это страшно нравилось: битва под Веной на бетонном отвратительном виадуке, обвешанном рекламами какого-то ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ-МОЛОДКИ, некоего АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ТЕМУЧИН, какого-то ПАРКЕТА ДУБОВОГО BARTEK THE OAK (который, непонятно почему рекламировала бабища с огромными сиськами, и каждая из этих сисек была прикрыта вставленным в фотошопе фотоснимком дуба Бартек[46]), рекламными полотнищами с торжественными обещаниями ГРУЗ ПРИМУ И ВСЕ ПРИВАРЮ!

Король Ян вырастал прямо из нестриженной травы, лицо ему закрывали растущие на железнодорожной насыпи кустища, и кустов этих никто не подрезал, никто о них не заботился, ведь мы же в Польше, а не какой-то там Германии, ведь у поляков, курва, имеются более интересные и важные дела, чем какие-то там кусты, что это за дебилизм: кусты подрезать, какой придурок бы их подрезал, когда тут важнейшие мировые проблемы решаются, когда за пузырем водки каждую субботу мир спасают, когда тут, понимаешь, принимают груз и все приваривают, так что в это время кусты лезли королю Яну прямо в лицо; а помимо короля Яна из кустов вырастали избирательные плакаты какого-то кандидата по фамилии Смутек[47] и с соответствующей рожей. А слева от всего этого тянулся пустырь с дико припаркованными машинами — одна тут, другая там, словно это монгольские лошади разбрелись по широкой, куда ни глянь, степи. А вдоль пустыря тянулся польбрук[48] — я вам говорю, если в Польше когда-нибудь вспыхнет революция, символом ее будет как раз плитка «польбрук».


У нас есть бутылки с бензином и польбруковая брусчатка, которые мы можем бросать друг в друга.
И между всем этим: между теми предвыборными плакатами, между теми сиськами, тем пустырем, тем поольбруком, теми разросшимися кустами, теми магазинами с автомобильными шинами EQUUS POLONUS MECHANICUS атаковали турок польские гусары, спасали Вену, подстриженный под горшок король Ян держал скипетр, морщил брови и раздувал усы — и все это намалеванное граффити-спреями, то тут, то там кровавило, как и вся эта страна, как вся Польша, ибо тут, на этом краешке краковской земли, Польша предстала единым целым.
И вот во всем этом бардаке стоял, представьте себе, веджмин[49] Геральт, пытаясь уехать автостопом.
Глаза у тебя полезли из орбит, глядишь — и не веришь: Геральт. Длинные, белые волосы, кожаное веджминское одеяние и даже клинок меча за спиной, вот только кобылы Плотвы нигде не было видно, но, возможно, Геральт потому автостопом и путешествовал, потому что Плотвы не было. Вот только был он какой-то полноватый, толстый для Геральта, и чуточку низковатый, в результате чего походил, скорее, на краснолюда, чем на приличного веджмина. Гееральт глядел на национальное шоссе номер семь такими же печальными, похмельными глазами, как и у тебя, и тянул вверх большой палец руки без особой надежды.


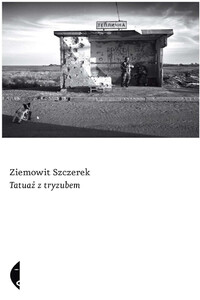


![Песнь в мире тишины [Авторский сборник]](/uploads/books/images/d4/d44377787ad191690ff7c2fa0d1807debdb8c391.jpg)
