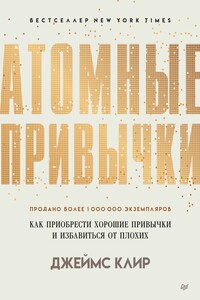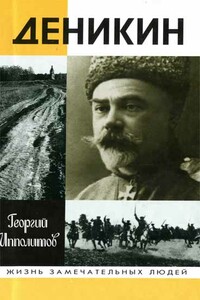Семья пообщалась с Дианой несколько минут, а потом ее маску сняли. Когда медсестра коснулась лямок на ее шее, меня вдруг охватило неприятное чувство, будто ответственность за смерть этой женщины лежит на мне. Рассуждая рационально, я понимаю, что смерть пришла к Диане, когда это было естественно для нее – не я же решила, что ей пора умирать! Но в тот миг меня угнетало осознание того, что умрет Диана только однажды, и то, как все сложится в эти минуты, останется с ее семьей навсегда.
Как врач я порой прихожу в отчаяние, если мне кажется, будто люди забывают, что смерть изобрела не я, что это не моя марионетка. Но потом на меня обрушился другой вопрос: а вдруг я поступаю неправильно?
А затем маску сняли, и лицо Дианы просияло. Она широко улыбнулась мне и произнесла четыре слова, которые останутся со мной навсегда: – Ах, какое же облегчение…
Никогда еще «облегчение» не звучало для меня так многозначительно.
Она попросила пить; я налила в пластиковую поилку воды и передала ее мужу, чтобы он сам мог вставить ей в губы соломинку. Затем я ушла.
Умерла она через пять минут.
«Ах, какое же облегчение…» Слова эти были сказаны не для меня, но именно за них я безмерно ей благодарна. В тот момент они подарили мне радость. Радость – и право гордиться тем, что в последние минуты ее жизни мы дали ей шанс испытать нечто прямо противоположное страданию и боли.
Заступила дневная смена. Когда мы передавали им списки пациентов, никто не удивился, что Диана умерла. Перед уходом я поблагодарила медсестру за то, что та помогла мне все сделать правильно. Я села в машину и поехала домой. А когда, с затуманенным взором, все-таки затормозила на красный свет, – поблагодарила еще и Диану.
Возможно, вам покажется, что некоторые из этих примеров – случаи печальные, к которым я тщетно пытаюсь привязать свою радость, ведь обычно их помещают в разряд воспоминаний о страданиях и горе. Но если бы я устроила в своем доме гостиную только для тех, кто не испытал в жизни ни боли, ни травм, – боюсь, мне пришлось бы долго ждать гостей. Реаниматология занимается многими вещами, но она не способна победить смерть – и имеет мало общего с чудесами.
Я также не верю, что самые больные люди, которых я встречаю на своей работе, днем и ночью лелеют какие-то несбыточные мечты. Сильно сомневаюсь, что, разглядывая квадратики потолка в палате реанимации, они мечтают стать астронавтами или исследователями. Или, сжимая руку своей жены, думают: «Надеюсь, мы выиграем в лотерею и разбогатеем». Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, большинство из них просто мечтает вернуться к обычной жизни. К тому, что мы изо дня в день считаем само собой разумеющимся: к способности самостоятельно дышать, вылезать из постели, ходить в туалет или принимать ванну. Проглатывать пищу и выбирать, чем сегодня позавтракать. Выходить на своих ногах в окружающий мир, любоваться его красотой или жаловаться на погоду – лишь бы у них был этот выбор.
Особое удовольствие я испытываю от ухода за реципиентами донорских органов при трансплантации. Однажды в новогоднюю ночь я беседовала с женщиной, которой только что пересадили сердце и легкие. Из всех моих пациентов она единственная не спала, когда зазвонили праздничные колокола. Мы принесли ей апельсиновый сок, разлитый в пластиковые фужеры для шампанского, и когда чокнулись, я спросила ее, каково это – жить с новыми легкими.
Она, похоже, не ожидала такого вопроса, но, помолчав секунду-другую, ответила, что давно забыла, что значит дышать полной грудью. Я спросила, куда бы ей больше всего хотелось поехать, как только она выберется отсюда. И в который раз удивилась тому, что, когда бы я ни задавала этот вопрос, еще никто не рассказывал мне о каких-то несбыточных амбициях или безумных фантазиях.
– Не знаю, – ответила она. – Я так долго жила одним днем…
– Я спрашиваю лишь о том, где вам сейчас хотелось бы оказаться, – не сдавалась я.
Тогда, подумав еще немного, она сказала, что, пожалуй, хотела бы съездить на пляж. «Даже если там холодно, – добавила она. – Было бы здорово оказаться снаружи».