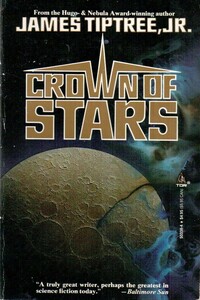В телеграмме говорится: «Нам с Алтеей представилась редкая возможность совершить путешествие, будем отсутствовать несколько лет, пожалуйста, присмотри за нашими делами. Целую, Рут».
И ведь она написала это накануне вечером.
Я заказываю еще один двойной, жалея, что не разглядел как следует тот инопланетный предмет. Была ли на нем бирка «Сделано на Бетельгейзе»? Не важно, что там было, но обезуметь настолько, чтобы вообразить, будто?..
Не просто вообразить, а надеяться, строить планы. Иногда мне хочется уйти… Вот чем она занималась весь день. Ждала, надеялась, прикидывала, как вызволить Алтею. Чтобы отправиться вслепую на неведомую планету…
После третьей «Маргариты» я пытаюсь шутить про инопланетность женщин, но мне совсем не смешно. И я уверен, никаких последствий не будет, вообще никаких. Две женщины, одна из которых, возможно, беременна, отбыли к звездам, а ткань общества не шелохнулась. Интересно, все ли подруги миссис Парсонс живут в постоянной готовности воспользоваться удобным случаем, включая путешествие к другим планетам? И удастся ли миссис Парсонс вытащить к себе важную даму-миссис Присциллу Хейес Смит?
Мне остается только заказать еще коктейль, размышляя об Алтее. Какие светила увидит черноглазый отпрыск капитана Эстебана, когда и если родится на свет? «Собирайся, Алтея, мы отбываем с Ориона». — «Слушаюсь, мамочка». Выходит, это особая система воспитания? Л/ы прячемся поодиночке и парами в щелях механизма… Мне не привыкать к чужому миру… И все это совершенно искренне. Безумие. Как может женщина выбрать жизнь среди инопланетных чудищ, оставить свой мир, свой дом?
Когда «Маргариты» окончательно затуманивают мой мозг, безумный замысел Рут уступает место картине: две крошечные фигурки рядом в меркнущем инопланетном свете.
Два наших опоссума исчезли без следа.
ДЫМ ЕЕ ВОСХОДИЛ ВО ВЕКИ ВЕКОВ
Рывок, высвобождение — и он стоит на склоне горы, под ботинками щебень, под рукой в перчатке — капот ржавого пикапа тридцать пятого года. Морозный воздух врывается в молодые легкие, на ресницах иней. Вокруг унылая, продуваемая всеми ветрами чаша гор, рыжая в первых рассветных лучах. И никакого укрытия, ни деревца, ни валуна.
На озере внизу ни души, заходящая луна серебрит его широкий ледяной обод. Сверху озеро кажется маленьким, отсюда маленьким кажется все. Неужели этот еле заметный шрам у берега — его лодка? Спокойно, все идет по плану! Черная дорожка, которую он пробил с вечера, тянется к зарослям камышей. Его затопляет радость, сердце выпрыгивает из груди. Все идет по плану.
Он щурится заиндевевшими ресницами, пытаясь разглядеть черные стебли камыша. Черные точки между ними — спящие утки. Доберусь я до вас. Он ухмыляется — ледяная корка в носу дает трещину. Укроюсь в камышах, в тех славных зарослях внизу. Около восьмидесяти ярдов, с берега не достать. Вот увидишь, Том. Я засяду там, когда будет пролетать утренняя стая. Старый Том говорит, я чокнутый. Чокнутый Пит. Посмотрим, кто из нас чокнутый.
В звенящей тишине пощелкивает, остывая, мотор. Здесь нет эха, слишком сухо. И безветренно. Пит напряженно вслушивается: наверху в горах тихо стонет ветер, внизу покрякивают утки. Просыпаются. Он отводит обледеневшую манжету над часами, подарком на день рождения, и на миг дивится собственному запястью — тощему запястью четырнадцатилетнего подростка. Двадцать пять, нет, уже двадцать четыре минуты до начала утиной охоты. Открытие сезона! Возбуждение стекает вниз, к животу, член встает, упирается в колючие кальсоны. Джентльмены не суетятся. Он благоговейно достает из пикапа новехонькую двустволку двенадцатого калибра.
Стволы обжигают холодом даже через перчатки. Для выстрела одну придется снять — брр. Пит вытирает нос рукавом, просовывает три пальца в отверстия обрезанной перчатки и переламывает ствол. На прицеле иней. Пит сдерживает порыв сдуть его, неуклюже соскабливает пальцами. Вот не надо было класть с собой в спальник. Затем, задыхаясь от восторга, вытаскивает из патронташа две тяжелые «шестерки» и вставляет в вороненые отверстия. Перетаскать несметное количество чертовых мешков с «Альбукерке геральд», целое лето класть кирпичи для мистера Ноффа — и все ради него: идеального, выбранного с тщанием и любовью собственного ружья. Он больше в руки не возьмет Томово вонючее ружьишко со сбитым прицелом. Только свое, родное, с его инициалами на серебряной плашке.