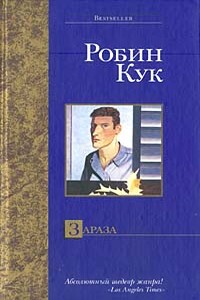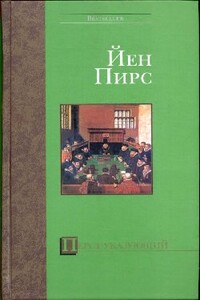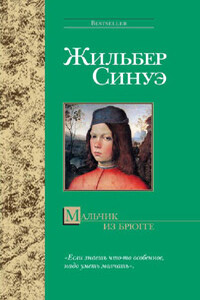Сапфировая скрижаль - страница 2
Рибера перевел дух, затем поднял указующий перст на грешников и с силой повторил:
— Exurge Domine!
Мануэла подавила дрожь, хотя апрельское солнце высоко поднялось на ясном небосводе, и уже неделю в Толедо стояла необычно теплая погода.
Она с удивлением услышала свой голос, с некоторой наивностью спрашивающий:
— Их сожгут прямо здесь? Сразу же?
— Нет. Святая Церковь ни в коем случае не может приговаривать к смерти и, уж, безусловно, не может умерщвлять. Как только чтение приговоров завершится, приговоренных передадут в руки светских властей и выведут за стены города, туда, где уже сооружены костры. Вы сами сможете в этом убедиться чуть позже.
— Полагаю, на сожжении толпа тоже присутствует?
— Да.
— Большая?
Губы Талаверы искривила горькая улыбка.
— Донья Мануэла… У вас репутация женщины, много читающей, неужели вы до сих пор не поняли, что зрелище чужих страданий доставляет человеку ни с чем не сравнимое удовольствие? Мне даже доводилось видеть, как некоторые помогают собирать обуглившиеся кости и сопровождают палачей, будто хотят убедиться, что еретиков действительно отправляют в то место, которого они никогда и не должны были покидать.
Монах-доминиканец начал зачитывать список обвинений, насыщенный перечислением проступков, и приговоры. Вскоре его сменил следующий клирик. Затем еще один. И все они вещали одинаковым тоном и с одинаковыми интонациями. Исполненные патетики и значимости, они старались держать аудиторию в напряжении с помощью изощренного ораторского искусства.
Сколько же времени длилось это чтение? Шесть часов? Восемь? Когда оно завершилось, солнце уже скрылось за собором. К тяжелым ароматам воска и ладана, вони подгоревшего сала и прожаренной пищи, которой торговали бродячие торговцы, примешивались какие-то едкие запахи.
Мануэле казалось, что ее душой завладела огромная пустота и уничтожила всякую способность чувствовать. Эмоции первых мгновений давно исчезли. Напряженность тоже испарилась. Она чувствовала себя разбитой, совершенно обессилевшей. Но о толпе этого сказать было никак нельзя. На протяжении всей церемонии толпу сотрясали противоречивые эмоции: ненависть и жалость, страх и очарование. И вот теперь эта человеческая масса, терпеливо, с самой зари, стоявшая на улицах вокруг площади, буквально вибрировала.
Молодая женщина невольно глянула на платформу, где находились грешники, готовые двинуться на костер. Женщины, мужчины, калеки и жутковатого вида чучела в человеческий рост, изображавшие приговоренных заочно.
Почему один из этих людей привлек ее пристальное внимание? Она и сама не знала. Может быть, на нее произвело впечатление спокойствие, исходившее от этого человека. Глубокого старика. Или она попыталась прочитать по губам слова, которые он в этот момент произносил? Старик с ясными глазами держался настолько прямо, насколько позволял его преклонный возраст. Кто он? В чем его обвиняют? Есть ли у него семья? Еврей, наверное. Еретик? Откуда у него столь удивительное спокойствие? Внезапно взгляд грешника встретился с ее глазами. И то, что она увидела в его взоре, заставило ее внутренне содрогнуться. Она начала было подниматься, но что-то не поддающееся определению удержало ее на месте. Мануэла сидела, словно приклеенная к стулу, пока Талавера не произнес:
— Донья Мануэла, пора. Следуйте за мной.
Пребывая в каком-то странном состоянии, она проследовала за священником, прокладывающим путь к поджидавшей их за трибуной карете. Полчаса спустя Мануэла обнаружила, что находится, не очень понимая, каким образом попала сюда, за стенами города, на трибуне для благородных лиц, расположенной в нескольких туазах от костров.
Здесь никаких представителей суда Инквизиции не наблюдалось, только квалификаторы, в чьи обязанности входило помогать приговоренным и — основная обязанность — решать, даровать или нет облегчение в виде предварительного удушения.
Под розовеющим куполом неба возвышались возведенные еще вчера костры. Невозмутимо поджидали палачи. В просмоленных ящиках виднелись останки сожженных.