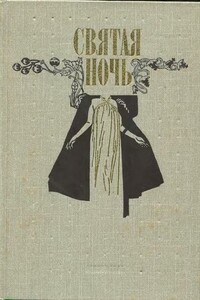Люди стремятся к своим целям. Кто–то вставляет зубы, кто–то становится нейрохирургом, кто–то, мазохистски экономив всю жизнь, наконец–то покупает небольшую, но милую дачу… Я же героически осиливаю восемнадцать бутылочек с каплями в складском туалете на двери которого написан стих:
«Here I sit so broken–hearted
Pushed and strained but only farted
Many tunes my rectum sings
Until I break my sphinсter ring»
Богема! Не только дорогие напитки, но еще и поэзия!
Я аккуратно складываю пустые бутылочки в их коробочки. Обертываю их бумажным полотенцем для вытирания рук. Кладу сверток на дно мусорной корзины. Прикрываю чужими, мокрыми кусками полотенца. Китаец–уборщик не заметит. От восемнадцати пипеток в кармане я избавлюсь позже.
Выхожу из туалета. Опьянение уже наступило, но пока это всего лишь эхо. Настоящий звук донесется до меня через пять минут.
Я вбираюсь по гулкой деревянной лестнице, покрытой пыльной ковровой обивкой. Захожу в столовую, вынимаю из кармана куртки сигареты и плеер. Спускаюсь вниз, выхожу на улицу. Перерыв будет только через час, но меня никто не заметил. Это словно массовая Камера Обскура — все они слепы и я потешаюсь на ними, ворую их товар, делаю себе маленькие радости.
Я закуриваю, включаю свой плеер. Сегодня я слушаю The Pogues — музыка которая несказанно подходит для того, чтобы в конце февраля стоять около своего склада, быстро пьянеть и смотреть влажнеющими глазами на проезжающие автомобили, железную дорогу и высокие сосны близлежащего леса. День Святого Патрика — ничто. Я, извините, на херу вертел этот день. И вообще — я ненавижу негласное правило — выпивать по праздникам. В день Нового Года вы никогда не увидите меня под мухой. Я также не люблю Олимпиады и всю эту спортивную истерию. Я хочу чтобы после моей смерти на надгробии у меня были выгравированы следующие слова: «he never played sports» (это я так — к слову).
Теперь, после усиленного лечения каплями — мне относительно спокойно и комфортно. Я больше не дерусь с призраками и, какое–то время я могу находиться на планете Земля в качестве полноправного жителя. Желудок горяч как выпечка на лотке, в ушах пронзительно свистит комариная бригада.
Я докуриваю и достаточно нахально иду назад к своему рабочему месту. Я знаю, что к конце рабочего дня мне будет плохо, депрессивно и одиноко. Все уйдут домой, и я еще час буду подметать пол и ждать курьеров, которые заберут поддоны с выполненными заказами. Меня будет тошнить (потому что к обеду я добавлю еще десяток бутылочек), у меня поднимется температура, мне будет стыдно и немного страшно. Но это будет.
Сейчас я могу спокойно подойти к пакующим товары женщинам, сказать им что–нибудь веселое и остроумное. В данный момент они не кажутся мне таким уж набитыми дурами… Их даже немного жаль. У кого–то есть дети… Все таки я зря так окрысился на них… Я сам–то порядочная падаль… Они, несмотря на их недостатки — все таки малооплачиваемые. Если не сказать: голь перекатная… Я всегда сходился с такими людьми — с ними немного легче жить. Если у человека много денег он, сам того не желая, становится дешевой гнидой… Длинными медицинскими пиявками присасывается к нему капитал. Становится страшно сделать что–либо безрассудное: пиявка может оторваться.
Вон у той, маленькой с красивыми, длинными волосами никогда нет сигарет… надо дать ей пару–тройку: пусть курит на здоровье. Да и коробки у них сегодня тяжелые — надо помочь…А то еще надорвутся — и выскочившие от натуги матки и нерожденные эмбрионы запрыгают по–полу забрызгивая его околоплодной жидкостью… Бедные, бедные рабочие женщины. Даже ваша аккуратно наложенная косметика печальна, потому что вы совершаете этот никому не нужный утренний ритуал несмотря ни на что… На складе не оценят ваши туши, помады и тени.
Я подхожу. Говорю что–то. Они смеются. Я помогаю им поднять несколько особенно тяжелых коробок.
По–пути к своей тележке с неоконченным заказом — я останавливаюсь поговорить с недавно нанятым молодым прохиндеем. Его хобби — граффити и комиксы. Он хочет знать все понемногу. У него было тяжелое детство.