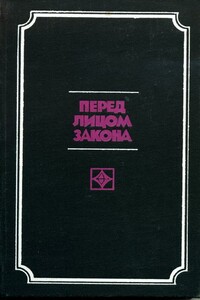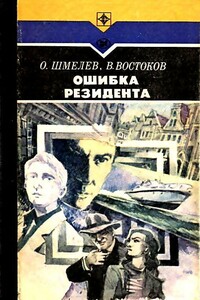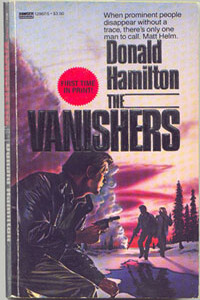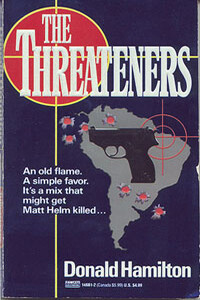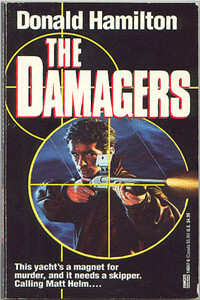Они улеглись, едва экспресс миновал притихшие на ночь, укрытые пухлым снегом пригороды Москвы. Но сон не шел.
Вагон мягко покачивало. Темное купе то и дело освещалось матовым, как бы лунным, светом пролетавших за окном маленьких станций, и во время этих вспышек Павел видел, как клубится под потолком голубой туман, — Надежда курил.
Павла уже начала охватывать дремота, когда он услышал тихий голос сверху:
— А почему именно в Ленинград?
Павел повернулся со спины на правый бок, положил голову на согнутую руку и сонно ответил:
— Хороший город.
— Я знаю, что хороший. Отец рассказывал. Рисовал мне грифелем на черной дощечке улицы и дома. Он там родился.
— Он тебе рисовал Петроград, а не Ленинград.
— Разве перестроили?
— Нет. Центр остался по-старому. Дело не в архитектуре.
— Его же сильно бомбили…
— И обстреливали тоже. Но это все зализали.
— Отец читал в газетах, будто во время войны шпиль Адмиралтейства специально укрывали, чтобы не пострадал от осколков. И даже конную статую царя Николая тоже. Он не верил. Это правда?
— Да. Все статуи укрывали. Только не себя.
— Ты был тогда в Ленинграде?
— Тогда я еще под стол пешком ходил. Под руководством мамаши в столице нашей Родины. Но после войны каждый год хоть разок, но езжу.
— Родственники есть?
Павлу было уже не до сна. Он откинул одеяло.
— Дай-ка папиросу.
Закурив, снова лег, поставил пепельницу себе на грудь и сказал:
— Мой отец в семнадцатом году был матросом на Балтике. А погиб под Пулковом. В январе сорок четвертого. Когда блокаду снимали.
— Он был профессиональный военный?
— Кадровый, ты хочешь сказать? Нет. До войны строил мосты. А воевал заместителем командира полка по политчасти. Раньше это называлось — комиссар.
Надежда долго молчал, затем спросил несвойственным ему робким тоном:
— Ты ему памятник на могиле поставил?
— Могила братская. Без меня поставили.
— Офицер — в братской? — не скрыл удивления Надежда.
— Погибшие в бою званий и чинов не имеют, — строго, как эпитафию, произнес Павел. — Если бы каждому убитому и умершему от голода ленинградцу отдельную могилу — земли не хватит. — И прибавил после долгой паузы: — А не поспать ли нам? В Питер прибудем рано…
Проводник разбудил их без пятнадцати восемь. Зимнее утро только занималось.
Наскоро умывшись, они выпили по стакану горячего чая и вышли в коридор, стали у окна. Впереди по ходу поезда в белесой дымке восхода угадывались размытые силуэты огромного города.
Под стук колес быстро пробежали полчаса, и вот уж экспресс, враз умерив свой ход, вкрадчиво втянулся под сводчатую крышу вокзала. Пассажиры «Стрелы» — почти все они ехали налегке, с портфелями или в крайнем случае с небольшими чемоданами — неторопливо покидали перрон. Уютом и спокойствием веяло от этой толпы. Едва ступив на порог города, люди уже были словно в родном доме.
Павел и Надежда пошли в вокзальную парикмахерскую. Они ничего не брали в дорогу, ни портфелей, ни чемоданов, и это помогло им сразу почувствовать себя тоже как дома.
Побрившись, вышли из вокзала, постояли на площади. День выдался редкостным для зимнего Ленинграда. Крепкий сухой мороз скрипел под ногами, сверкал ослепительными кристаллами в чистом, свежем снегу, выпавшем ночью. Небо нежно голубело. Казалось, наступает какой-то праздник — до того весело выглядела площадь и широкий Невский проспект, убегающий от площади вдаль, к золотой игле Адмиралтейства.
— Ничего на ум не приходит? — спросил Павел, взглянув в сосредоточенное и вместе с тем как будто растерянное лицо Надежды.
— Стихи… — сказал тот задумчиво. — Вспоминаю стихи. И не могу ничего вспомнить.
— Ладно. — Павел хлопнул Надежду по плечу. — Давай-ка для начала позавтракаем.
Они зашли в молочное кафе на Невском. Съели по яичнице, выпили по стакану сливок и по две чашки кофе. Надежда ел без аппетита, но торопливо, словно стараясь побыстрее покончить с необходимой формальностью.
— Так, — сказал Павел бодро, когда они покинули кафе. — Теперь надо обеспечить жилье. Айда в гостиницу.
Надежда взял его за рукав.
— Слушай, Паша… — Он замялся. — Только куда-нибудь такое, чтобы не было иностранцев…