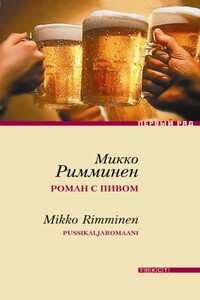Припудрила на носу то, что можно было, и, встряхнув головой, попыталась если уж не избавиться от него наяву, так хотя бы прогнать мысли о нем. В зеркале отражались четыре крючка для полотенец на стене. На каждом крючке висело по полотенцу, и вместе они составляли красивую цветовую гамму пастельных тонов. Под крючками были подписи: «ЯЙРИ», «ОНЙЕР», «ЭЛЛАК» и «АННА». Стало вдруг ужасно неловко. Если я когда-нибудь и слышала имена детей Ирьи, то это пролетело мимо ушей. И как же они тут, посреди всего этого.
А потом смекнула, что неприлично в чужой ванне вот так торчать часами, наводя красоту, и вытолкнула себя обратно в коридор, напротив ванной была дверь в гостиную.
Шторы в комнате были задернуты, он лежал на диване, муж, с синим отсветом телевизора на щеках. У него на груди лежала газета, но сложно сказать, какая именно. Страшно было что-то предпринимать, когда толком ничего о нем не знаешь, о муже, хотя Ирья вряд ли взяла бы себе в мужья чудовище. Правда, всякое случается. И поскольку муж, казалось, не смотрел толком ни в телевизор, ни в газету, я в порыве какого-то истерического отчаяния начала вдруг, согнувшись и скукожившись, красться к нему. Умудрилась задеть пальму, которая стояла на специальном пьедестале в углу за дверью, пальма предательски закачала листьями и обиженно зашелестела.
— Огого, — прохрипел муж Ирьи.
Надо было срочно что-то сказать, что-нибудь успокаивающее, прошептать, например, убаюкивающим голосом его имя, но оно, как назло, выскочило из головы, это имя, хотя ведь только что прочла его под крючком для полотенец.
— Ирма, — послышалось из кухни.
— Алло! — почему-то отозвалась я, а затем, не отрывая глаз от груди ее мужа, неожиданно для себя шепотом спросила: — Что там?
В кухне стало тихо, в комнате — тихо, казалось, что во всей Кераве вдруг стало тихо, и когда я задумалась об этой тишине, то поняла, насколько тихо действительно было вокруг. Возникло чувство, что за мной внимательно наблюдают, наконец я осмелилась поднять глаза: он и вправду таращился, муж Ирьи, и даже имя его вспомнилось, Рейно, — Рейно пристально смотрел на меня, о выражении его глаз сказать что-то определенное было сложно, поскольку в комнате царил полумрак. И одновременно я почувствовала на себе еще чей-то взгляд, детей с фотографий на книжной полке, телевизора, пальмы и Ирьи с порога комнаты.
Я прошептала: хотела взглянуть, что показывают по телевизору, и сделала пару робких шагов, чтобы увидеть газету. Рейно смотрел на меня так, словно я вот-вот наброшусь на него, он даже весь сжался, когда я, вместо того чтобы подойти к телевизору, наклонилась к газете, какие-то спортивные новости там были, совсем другая газета, не знаю, стало мне от этого легче или тяжелее, ведь источник моей тревоги все еще не был обнаружен. Теперь, когда задача в гостиной выполнена, я внезапно ощутила полную беспомощность: непонятно, как выпутываться из этой ситуации.
И когда Ирья крикнула с кухни, что кофе готов, я промычала что-то неразборчивое и пулей вылетела из комнаты.
В кухне Ирья гремела чашками и блюдцами, точнее, даже не гремела, а звенела ими, словно колокольчиками. Она стояла, повернувшись к раковине, и я, улучив минутку, пробежалась взглядом по углам, столу, полкам и подоконнику, я подумала, что она не заметила, как я вошла. Хотелось спросить, как она, но почему-то не решилась. А потом Ирья сказала немного задумчиво: ну садись же, мил человек, и я, конечно, села, в действительности даже раньше, чем она добралась до конца своей реплики. Казалось, что теперь надо быть паинькой и во всем ее слушаться.
И как только я наконец-то устроилась на стуле более или менее удобно, я вдруг увидела ее, полочку для газет, серую с металлическим отливом, прикрепленную к стене возле шкафа с посудой. Она была едва видна из-за висящего рядом красно-белого клетчатого передника.
И вот я там сидела, за столом, в бьющем из окна грубом и бесцеремонном осеннем свете, посреди непрерывного, висящего в воздухе тиканья каповых часов и приглушенной возни Ирьи, я смотрела на стену и на передник, за которым пряталась полочка для газет.