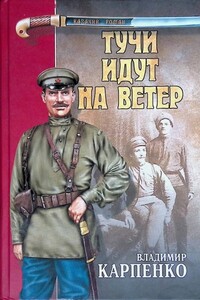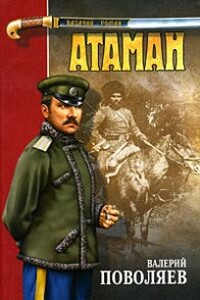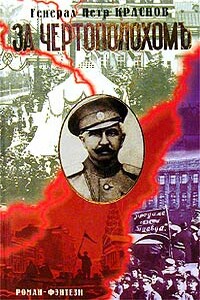— Ну, похвались, похвались… Скиньте ковры, подавай коней на посмотр!
Теснее обступили казаки круг, где татары водили, показывая Ермаку, лошадей. Они останавливались поочереди против Ермака, и Слепый докладывал Ермаку о породе и достоинствах коня.
— Мунгал — конь бел без единой отметины, — говорил он, когда против Ермака установили широкого серого[48] коня. — Ты погляди, атаман, — копыт у него какой, розовый совсем. Крепче сердолика камня. Нога короткая, широкой кости сбоку, а спереди тонкая. Спина с изгорбиной, а круп — хоть спать ложись. Семь лет коню, а побежка такая, что ни одна лошадь его обогнать не может.
— Наденьте на Мунгала голубую в серебре узду — так и подведете его царю. Давай следующего.
Татарин подвел к Ермаку прекрасного солового коня. На солнце он казался золотисто-розовым. Нижняя челка, грива и хвост были белые. Размытый, разобранный руками и расчесанный навес[49] сверкал на солнце. Конь не стоял и играл на месте. По спине и по крупу протянулся темный ремень. Три ноги были по щетку белые, четвертая — правая передняя черная. Прекрасные большие глаза косили на Ермака. Кругом зачмокали от восторга татары.
— Це… це… це… вот лошадь… ай-да лошадь!..
Казаки качали головами.
— Красота неписаная!
— Божие творение.
— Такому коню цены не сложить.
Дрожащим от радостного волнения, что так всем понравилась лошадь, докладывал Ермаку Слепый.
— Алтын — по-нашему Червончик… Эта масть, атаман, почитается у татар священной. Царская это масть. И такой конь — счастье приносит.
— Наденьте на него зеленую узду в золоте.
И как надели, еще больше залюбовались лошадью казаки.
— Дозволь, атаман, провести.
— А ну, проведи… Рыской.
— Не идет, а играет.
— Хозяина веселить.
— Сигает-то как!.. Ах ты…
— Да, только царю на ней и ездить.
— У кого другого такого коня увидал бы — ей-богу украл бы… Даже у тебя, атаман, — пошутил есаул Мещеряк.
— Сказано в писании: не завидуй, — усмехнулся Ермак.
— Про коня, атаман, в писании ничего не сказано. Там писано — ни вола его, ни осла его… Мне волов и ослов — без надобности.
— Ни всего, елико суть у ближнего твоего, — внушительно сказал атаман. — Давай дальше. Замерзнешь тут с вами. Мороз-то какой лютый!
На смену соловому стал светло-рыжий коренастый красавец…
* * *
После выводки Ермак с Иваном Кольцо и Федей вернулись в избу.
— Замерз! — сказал Ермак Феде. — Кусает сибирский мороз-то!..
Он скинул с лавки большой воловьей кожи кубический цибик.
— Ты мне сказывал — невеста у тебя в Москве есть.
— Есть и невеста, — ответил, краснея, Федя.
— Любишь?
Федя совсем спекся.
— Люблю, — чуть слышно сказал он.
— Ну сыпь сюда ей подарки от меня. Скажи — посаженым отцом твоим Ермак — донской атаман. Да кликни-ка, брат, Восяя.
Восяй, седой, от заиндевевшей на морозе шерсти, радостно оживленный, вбежал в избу. Будто спрашивал он: «ну что еще надо от Восяя? На что Восяй понадобился?»
— Ишь ты какой! Что бобер камчатский седой, — показал на собаку Иван Кольцо.
— Мороз всякого разукрасит, — сказал Ермак и подозвал Восяя к себе.
По лавкам были разложены дорогие мха.
— Ну, Восяй, — сказал Ермак, ласково гладя собаку по голове. — Ты своего хозяина любишь?.. Уважаешь?.. Как невесту-то твою, Федор, звать-величать? — спросил Федю Ермак.
— Наталья Степановна.
— Ты, Восяй, и Наталью Степановну знаешь? Ишь хвостищем-то своим завилял, замахал… Будто и правда понимает, о ком говорят.
— Он, атаман, слова понимает, — потупясь, робко сказал Федя.
— Ладно. Так ты и хозяйку свою будущую любишь? Эге! Глаза-то разгорелись… И пасть даже открыл… Ну-ка, Восяй, принеси для нее собольков.
Восяй в два прыжка был у лавки с мехами, схватил сверху соболей и подал Ермаку. Тот передал связку Ивану Кольцо.
— Клади, Иван, в цибик — это свет Наталье Степановне от меня на шубу сибирскую. А теперь, Восяй, тащи-ка нам лисицу.
Восяй кинулся к красным лисьим мехам, но Ермак строго окликнул его и показал толстым своим пальцем на дорогих черно-бурых, совсем почти черных лисиц, лежавших на низкой печи. Восяй понял указание Ермака и схватил прекрасный мех.
— И еще один! — пальцем показал Ермак.
— О, атаман! — простонал Федя. — За что меня жалуешь?