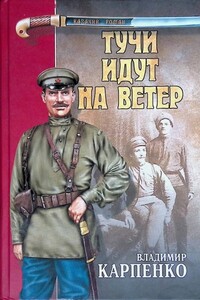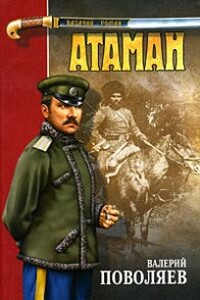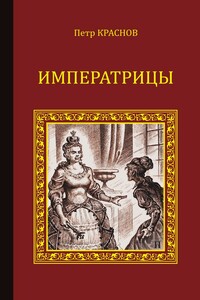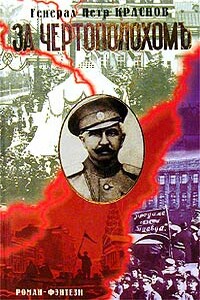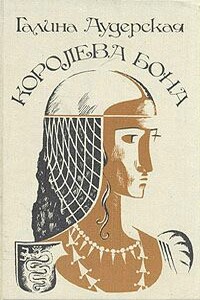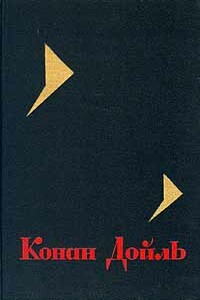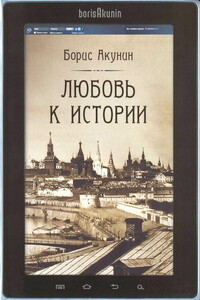Когда Иван Павлович с Фанни вернулись на Кольджат, там уже была зима. Снег ровной пеленой покрыл крыши постовых построек, двор, склоны гор. Глухо шумела Кольджатка между обледенелых камней. Веранда была засыпана снегом, и слоем снега же покрыты были неубранные стол, стулья и кресло. Скучная, долгая горная зима наступила.
Внизу, в долине, зеленели деревья, висели на яблонях тяжелые и крупные румяные верненские яблоки, желтая, выгоревшая степь и пески пустыни млели под знойными лучами солнца. Там наступало лучшее время года, продолжительная среднеазиатская осень, которая обещала стоять до конца декабря.
Убрали снег с веранды, перенесли столовую в кабинет, затопили печи, устроились по-зимнему. В первый же день Иван Павлович попробовал напомнить Фанни о том, что дала ему Фанни, девушка-волк.
Был тихий вечер. Чай был допит. Самовар пел про Россию, про Дон, про зимовники задонской степи, про Петербург и про театры… Не разберешь, что именно пел он, но ворошил мозги в хорошенькой головке, и она опустилась на грудь, прикрытую шерстяной кофточкой, и глаза из-под черного полога ресниц смотрели упорно на допитую чашку. В этом взгляде, в наклоне головы на тонкой шее, в тихой грусти, точно охватившей всю юную душу, было столько женственного, девичьего, любящего и любовного, что Иван Павлович решил попробовать и намекнуть, только намекнуть, на мучивший его вопрос.
— Фанни, — тихо сказал он, — вам хорошо было вчера на киргизской байге?
Она подняла голову. Темные глаза с большими зрачками, вытеснившими синеву, казались черными. Какая-то дымка закутала их. Не сразу оторвалась она от своих дум. Она вспоминала, переживала вновь свою победу, и огонек удовольствия заискрился в глазах.
— Ах! было дивно хорошо! Такая красота лучше всякого театра, — воскликнула она.
— Фанни, а вам понравилась… Эта киргизская игра… Девушка-волк?
Она насторожилась. Маленькая складка легла между темных бровей и забавно наморщила их, придав всему лицу детское выражение. Тут бы и остановиться и не продолжать дальше, но Ивана Павловича точно толкало что-то вперед и вперед.
— Вы знаете, у киргизов это свадебная игра.
— Да, — неопределенно протянула она.
— Все заранее подстроено, — продолжал, не замечая холодности Фанни, нестись в пучину Иван Павлович, — и ловит девушку-волка обыкновенно ее нареченный жених, ее избранник сердца.
— В самом деле? — уже совершенно ледяным голосом произнесла Фанни и положила руки на стол, будто собираясь встать.
Он ничего не видел и сладким, так не идущим к его мужественной фигуре, голосом продолжал:
— Вы серьезно играли?
— Да, играла, что же из этого? Сами видели, и как огрела Аничкова, и этого херувима-адъютанта, местного сердцееда.
— Нет, Фанни… А относительно меня? — молил Иван Павлович.
— Вы воспользовались минутной заминкой. Я устала.
— Фанни! Так это было… Несерьезно?
Лицо ее покрылось внезапно пурпуром стыда и гнева. Кровь побежала к вискам, залила весь лоб, маленькие уши стали малиновыми. Гроза надвинулась. Темные глаза метнули молнии.
— Да вы о чем?.. Вы с ума сошли… Оставьте, пожалуйста!
Она нервно встала и широкими шагами прошла в свою комнату. Там она бросилась на постель, уткнулась лицом в подушки и залилась слезами.
«Ах, Боже мой, Боже мой! — думала она сквозь рыдания. — Неужели все они такие? Неужели у всех у них только одно на уме? И даже лучшие из них. Потому что, — это-то ей подсказывало ее сердце, — Иван Павлович оказался лучшим, самым лучшим из них, — и он… Он… Он мог подумать, он смел подумать»… Ей было «ужасно» больно и совсем не смешно это робкое признание безвозвратно влюбленного человека.
Иван Павлович выскочил на веранду и ходил по ней, подставляя раскаленную голову морозному воздуху гор и все повторял: «Ах, я болван, болван… Нетерпеливый, грубый болван… А как хорошо было бы теперь… До Рождественского поста и обвенчаться. Совсем бы иной показалась зима, совсем бы иначе потекли дни на скучном посту… Ах, я нетерпеливый идиот. Этакое грубое животное… Теперь надолго все испортил… Пожалуй, навсегда… Обидел ее, милого ребенка…»