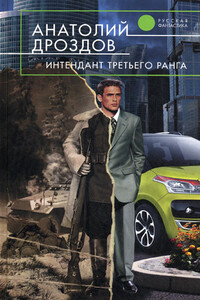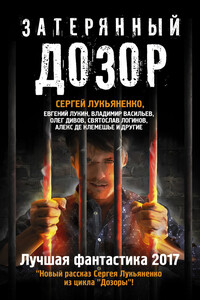Его голос дрожал, язык заплетался от страха.
— Возможно, — ответил я, все еще не понимая, к чему он клонит. — Но, возможно, что помощь придет не раньше чем через сутки-двое.
— Это никак нельзя, — затараторил он. — Никак Только завтра. Нас ведь спасут завтра?
— Вы так боитесь этой планеты? — Мне станови лось жалко беднягу. Он трясся как осиновый лист, Так, что зубы лязгали при каждом слове.
— Я боюсь ее. — Он поднял было руку, но тотчас опустил, опасливо указал движением глаз в ту сторону, где скрылась Золотая. — Завтра в полночь заканчивается срок ее договора. И, поверьте мне, офицер я не стану спать. И вы не спите. Потому что если вы уснете, то…
И он вновь перевел затравленный взгляд на сваленные в груду тела пигмеев и кротко чиркнул пальцем поперек горла.
— Не говорите ерунды, мистер Ганн. — Я старался не глядеть на него: на трясущиеся дряблые щеки в пегой щетине, полубезумные от страха глаза. — Раз вы такой ценный свидетель, в договоре должны быть предусмотрены все возможные накладки. В том числе и непредвиденная задержка в пути. Наверняка в каждом договоре Золотых прописано несколько «запасных» дней на экстренный случай. Если бы эти девушки убивали своих клиентов, они бы не стоили так дорого.
— Вот именно, — зашлепал трясущимися губами Ган, — дорого. Если бы я платил им из своего карма на — не стал бы жаться и считать чертовы гроши. Не ваши дураки из службы, зацикленные на этой песьей войне, пожалели бабла. Обойтись вообще без временного запаса не позволили правила Золотых, так они взяли самый… — Крыса гадливо сморщился, подбирая слово, — самый экономичный вариант. Сорок во семь часов. Поэтому нас должны спасти завтра. Иначе… амба.
— Не переживайте, — ответил я, стараясь успокоить его, но чувствовал, как по спине поднимается нехороший холодок. — Нас найдут завтра. Еще дотемна.
Вечером мы молча сидели у костра, жарили мясо. Розин, тихо напевая, пришивала пуговицы.
— Может, хватит стонать, — наконец не выдержал Ган. Он дергался как на иголках. — Хоть бы спела чего повеселей. И брось эти чертовы пуговицы…
На мгновение забыв о своих обязанностях, я едва не вступился за нее. Еще час или два назад она смывала с себя кровь его врагов. Каждый справляется со стрессом, как может. И если ей легче от пуговиц — пусть себе пришивает.
— Мне жаль, что я их рассыпал, — примирительно сказал я, стараясь не обращать внимания на обиженную возню подопечного. — Если тебе нужно, возьми мои.
Я взял нож и хотел отрезать пару пуговиц с форменной куртки, но Розин остановила меня.
— Двадцать четыре… Твои не подойдут, — с трудом подбирая слова, отозвалась она, — не нужны. Не такие. И… у меня есть это…
Она достала из кармана россыпь красных туземных бус.
— Это для них даже лучше пуговиц, — со странной грустью сказала она, продевая иголку в алый шарик. — Так я запомню их. Будет проще молиться.
Я непонимающе посмотрел на ее рюкзак, усыпанный десятками пуговиц.
— Мы не забываем тех, кто ушел по нашей вине, — отозвалась она, не дожидаясь моего вопроса. — Каждая жизнь бесценна. Каждый достоин памяти и молитвы. На задании мне трудно молиться. Клиенты часто не любят смотреть, как я молюсь. Поэтому я пришиваю пуговицы, чтобы не забыть никого…
Она замолчала, откусила нитку, вдела в иголку новую.
— А вы, офицер Дэни, вы в полиции молитесь за тех, кто ушел по вашей вине?
— Мы просто стараемся не доводить до этого, — отозвался я, чувствуя, как просыпается чувство вины. — А если не получается, пишем рапорты.
— Тогда, если вы не против, я помолюсь и за ваших.
Она отложила в сторону еще шесть бусин. Ни одна жизнь не может быть забыта.
— Это так грустно, что вы не молитесь. Я думаю, поэтому болит ваше сердце…
— Да что ты знаешь, дылда лупоглазая, — бросил я, поднимаясь. Вина в одно мгновение сменилось яростью. Видимо, эта планета, настолько непохожая на нашу, действовала так: самообладание летело ко всем чертям. Пусть эта помешанная сколько угодно толкует о мировой справедливости и бьет поклоны — она не имеет права совать свой нос в дела, которые не касаются никого, кроме меня. Она знает, почему болит мое сердце! Чертова дура не знает ничего. Мастерски режет глотки и ни беса не понимает в человеческой душе.