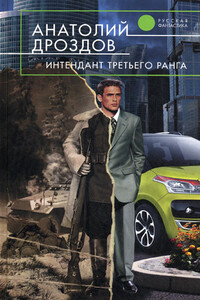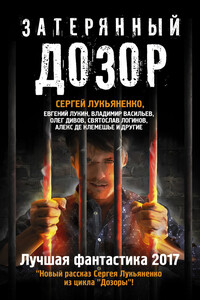Так я оказался в службе охраны свидетелей. На первый взгляд странная замена армии. Уже почти год я стреляю в основном в тире и мотаюсь по всей вселенной в челноках с разномастными крысами, улепетывающими от тех, кого они заложили федералам, чтобы сохранить скудный мех на собственной шкурке.
Ган и был и не был одним из них. Такой же, как остальные, — невысокий, крепкий, с цепким и холодным взглядом стрелка, пальцами игрока и носом большого любителя выпить. Чуть за сорок, с намечающимся брюшком. Как и остальные, Ган пел как по нотам. Бывших дружков он топил десятками, но было в нем то, чего не видел в других. Все, кого я раньше охранял, бравируя своим крысятничеством или скромно и жалостливо выпрашивая себе защиту — все боялись. Боялись до намокания штанов. Только Ган был не таким.
Ган был падальщиком, и не от тяжелой жизни, а по зову души. Он с радостью трусил за любой стаей, Жадно подбирая самые грязные, самые завонявшиеся объедки. И находил во всем этом гадкое, ненасы-тимое удовольствие. А потом — когда удовольствие кормиться при стае начинало слишком напоминать работу, Ган с легкостью находил другую, охотно скармливая своих недавних друзей новым.
Кто-то, не знавший Гана, глянув на него, сказал бы, что эта крыса бежит с тонущего корабля. Но нет — эта толстая, сытая, садистская тварь всего лишь искала другой корабль, ждала случая, чтобы впиться гнилыми зубами в новый, еще полнокровный и живой мир.
Его настоящего имени я не знал. Он просил звать его Ганом. Хотя, рассказывая о себе, он частенько говорил «И он ответил мне: «Послушай, Дикки, сынок…» или «И я сказал себе: «Чарли, пришло время сматывать удочки…» — и много чего еще. И по-моему, единственное, что было правдой из всех этих историй: Ган, как бы его ни звали, был редкостной мразью.
Возможно, поэтому, для того чтобы спасти его жизнь, властям пришлось раскошелиться на Золотую.
— Голди, — крикнул он, хотя девушка сидела всего в паре шагов, — Голди, крошка. Не принесешь ли папочке баночку холодного пива?
Золотая молча отложила рукоделие, поднялась, принесла из холодильника пару банок, поставила на столик. Ган откинулся на спинку дивана, открыл пиво и, ловко выбросив руку, ущипнул девушку за бедро. Я видел, как инстинктивно дернулась ее рука, чтобы предупредить это движение, но Золотая безупречно контролировала свое тело. Она не подала виду, что задета его фамильярностью, спокойно отправилась на свое место, но не успела сесть.
— Хорошая девочка, — бросил Ган, потягивая пиво. — Жаль, что ты такая страшненькая. Хотя…
Он почесал подбородок, отчего хрустнула отрастающая пегая щетина. В волосах Гана не было седины, а в усах и бороде проглядывали белые нити. То ли из-за этих седых усов, то ли из-за похотливой складки в углу его рта, а может — из-за желтоватого света в салоне, он выглядел старше, чем обычно. Он казался не крысой, а старым блудливым котом, который следил за попавшей в его лапы мышкой.
Мышка подняла на него пустой, лишенный выражения взгляд и взяла с дивана свое нелепое рукоделие.
— Может, ты станцуешь для меня и моего друга офицера Дэни, — не спросил, приказал Ган, поднимая с дивана пульт. Зазвучала музыка. Тино Альбо. Я всегда считал итальянскую попсу слащавой, но Ган прикрыл глаза от удовольствия и начал в такт покачивать зажатой между пальцами сигаретой.
Я хотел возразить, но Золотая уже вышла на середину салона и медленно тряхнула волосами. Сперва это не было похоже на танец. Она только покачивалась, словно прислушиваясь к медленному, тягучему напеву. Я чувствовал, что с языка Гана готова сорваться очередная гадость, но Золотая неторопливо подняла руки, выгнула спину, склонила голову.
В ее движениях было что-то лебединое. Трудно было ожидать от ее нескладной фигуры такой удивительной, нечеловеческой пластики. Крепкие руки, излишне, на мой взгляд, крепкие. Выпуклые мышцы, вздувшиеся вены — она походила на пловца, борющегося с течением полноводной реки, и одновременно была этой рекой. Сколько природной, первозданной, немыслимой силы таилось в ее изуродованном упражнениями и тренировками теле. Эта дикая, варварская пляска завораживала. Так танцует подброшенный вверх клинок перед тем, как лечь в руку. Я затаил дыхание. Даже Ган засмотрелся на нее, выронил сигарету. И тотчас взвизгнул как ошпаренный, вскочил, стараясь сбросить на пол упавший за отворот брючины окурок.