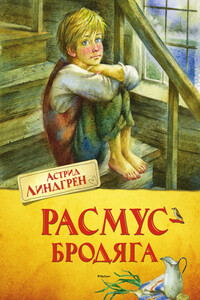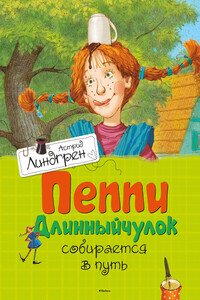— Ты понимаешь, что говорит священник?
— Не-а, уж поверь мне, — ответил Гуннар, — никто этого не понимает!
На второй день Рождества мы поехали на рождественский пир к бабушке, маминой маме. Мы катили в плетеных санях, запряженных парой лошадей, Май и Мауд. Папа, сидя на облучке, правил лошадьми, там ему было, верно, очень холодно. А мама и мы, дети, сидели в санях и были накрыты теплыми овечьими полостями.
А когда мы приехали, бабушка стояла уже в дверях, на крытом крыльце и повторяла: «Все мои дети и все мои внуки!»
Хорошо, что у бабушки было так много внуков, а у нас поэтому много двоюродных сестер и братьев, с которыми можно было играть, и мы играли так, что просто удержу не было.
Да и ели мы очень много, особенно сырных лепешек с вареньем и сливками. А смотреть на бабушкины картины было тоже весело. Мне больше всего нравилась та, что называлась «Иисус пред судом Понтия Пилата». Иисуса на этой картине было, конечно, жалко, но, казалось, он спокойно относится к тому, что происходит.
Внезапно наступил вечер, и когда мама и ее сестры и братья запели «О, как вещал…», мы поняли, что пора ехать домой. У дяди Альбина был глухой красивый голос, а у мамы звонкий и ясный — все пели хорошо.
«О, какое блаженство брести домой, ведомыми нашим Отцом Небесным», — пели они, и это было так красиво, что меня пробирала дрожь.
Было темно, когда мы сели в сани, однако небо было усеяно звездами, самое малое, многими тысячами звезд.
И так красив был снег, и темный лес, и звезды над нами.
Май и Мауд бешено неслись вперед, им хотелось домой.
Вообще-то, хотелось домой и мне. Я напевала сама себе, но тихонько, чтобы никто меня не слышал:
О, какое блаженство брести домой.
В моих красивых сапожках все дни напролет…
Да, вот это было Рождество так Рождество в 1913 году![3]