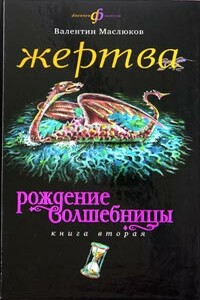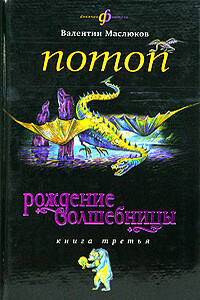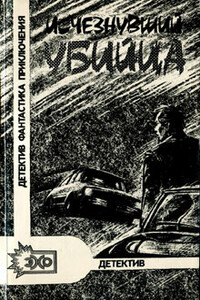Знобило всех.
Тусклый камень на темной руке Поплевы не вспыхнул, что было и невозможно при подавляющем сиянии солнца, но налился блеском.
— Что? — одними губами произнес Тучка.
Расслабленно приоткрыв рот, как захваченный врасплох человек, Поплева огляделся растерянным, но просветленным взором… невидящим… В лице его появилась застылая, отчужденная сосредоточенность.
— Ну как? — молвила Золотинка.
И Золотинка с Тучкой, зачарованные неясными отсветами таинства, притихли перед завесой, по ту сторону которой проник Поплева. Прошла немалая доля часа, когда он перевел дух и зажмурился, обхватив себя за виски. Асакон померк и различался на руке, как заурядная драгоценность.
Золотинка не смела оставить руль, а Тучке достаточно было пересесть, чтобы тронуть плечо брата.
— За это можно все отдать, — отозвался Поплева, вздрогнув. — Простор. Свобода. Одним взглядом раздвигаешь пучину и на дне моря видишь волнистые гряды ила. Потонувшие, проломленные корабли, обломки мачт… И сразу, другим взмахом — беспредельная пустота неба над головой. И вся наша жизнь… затерялась между холодом — тем, что наверху, и тем, что в пучине… Каждая рыбина в косяке, каждая чешуйка — наперечет. Ты видишь все сразу и одновременно: спокойствие затаившегося между скал осьминога, нюх акулы, озабоченность чайки, вечный столбняк утонувшего моряка, и что-то такое вокруг… исчезающий аромат памяти. Все сразу: краски, звуки, запахи, весь хор желаний. Только что ты слеп и глух, и вдруг все сразу — прозрение.
Он двинул ладонями, запуская растопыренные пальцы под корни волос.
— Нестерпимо, — произнес он чуть слышно. — Это похоже… как сказать… на другое бытие. По остроте ощущений это все… оно не вмещается в нашу жизнь. — Во взгляде его, когда встретил широко раскрытые, жадные глаза девушки, было смятение. — Другое бытие. Более действительное что ли, чем вот всё настоящее. Действительней, чем ты, Золотинка. И ты, Тучка. За это можно жизнь отдать. Не только свою — чужую.
Поплева умолк и уронил голову на руки.
— Что ж, попытайте и вы свою долю, — сказал он немного погодя с каким-то судорожным вздохом.
— Нет-нет, — возразила Золотинка почти испугано. Страдая вместе с Поплевой, она боролась с соблазном. — Потом. Не знаю. Жутко.
А Тучка хватил кулаком по скамье:
— Давай!
Поплева безропотно отдал камень — ни совета, ни предостережения.
— Как ты это делаешь? — через некоторое время сказал Тучка, повертывая волшебный камень, словно кольцо жало ему или, напротив, соскальзывало с пальца.
— Ты торопишься, — мягко попрекнул Поплева. — Не нужно суетиться. Терпение. Настойчивость и, главное… вот эта уверенность в себе. Асакон чувствует, кто его боится. Раз оробеешь и он уж к себе не подпу-у-устит, — протянул Поплева, сообразив, что сболтнул лишнего — под руку.
После всех усилий Асакон оставался и слеп, и глух. Красный от досады Тучка отер испарину:
— Нет, не выходит, не могу…
Золотника не вмешивалась, мучаясь от невозможности помочь такому большому, умному и сильному, во всем превосходящему ее Тучке. Поплева решился остановить все это своей властью:
— Ну, раз на раз не приходится, — он забрал Асакон и убрал его с глаз долой.
Другого раза уже не случилось — ни у Тучки, ни у Золотинки, ни у Поплевы.
Над заметно притопленными «Рюмками» взмыла, забирая все выше, большая черная птица… ворона. Вот показала она во всю ширь резные, обрамленные маховыми перьями крылья, прошла над головами и растворилась в небе. Но возвратилась прежде, чем лодка причалила к плавучему дому. Все притихли, чувствуя невозможность говорить непринужденно и громко при соглядатае.
— Главное, не подавайте виду, — вполголоса, только-только чтобы слышали свои, заметил Поплева.
Разрушения на «Рюмках» бросались в глаза: купы зелени на шканцах исчезли, словно опрокинутые бурей. Двери нараспашку, всюду земля с перепутанными плетями жалких, иссохших огурцов. Пропали оконницы со стеклами, на месте окон кормового чердака зияли пустые глазницы. Разная дрянь, включая вытертую метелку, исчезла бесследно, а дорогая утварь, два сундука с добром, заблаговременно затопленные в трюме, благополучно пережили нашествие.