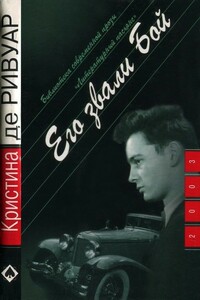К кому это относилось, ко мне или к ней, не имело значения; мы перебрасывались репликами, как мячиком.
«Куды спешить, работа не волк».
«А если кто войдет?»
«А хоть и войдет. Кому какое дело?»
«Еще подумают…»
«Ничего не подумают. Да кому мы нужны? Ну чего ты, — сказала она мягко, — не хочешь, что ль?»
«Хочу», — сказал я.
«Ну так чего?»
Мы направились по пустынной улице к ее дому. Ни облачка в высоком небе. В горнице отменная чистота, массивный стол — теперь на месте хозяина восседал я — был накрыт белой скатертью. Бодро постукивали ходики. Мавра Глебовна внесла шипящую сковороду, спустилась в подпол, выставила на стол миску с темно-зелеными, блестящими, пахучими огурцами. Я разлил водку по граненым рюмкам.
Она раскраснелась. Она стала задумчивой и таинственной. Медленно водила пальцем по скатерти. Мы не решались встать.
В дверь скреблись, вошла, подняв хвост, мраморного цвета кошка и вспрыгнула на колени к Мавре Глебовне.
«Пошла вон!..»
Гость сидел, несколько развалясь, упираясь затылком в спинку высокого резного стула, это была, несомненно, барская мебель, сколько приключений должно было с ней произойти, прежде чем она водворилась здесь! Водка подействовала на меня, время застеклилось, самый воздух казался стеклянным, и кровать, как снежный сугроб, высилась в другой комнате. Хозяйка встряхивала двумя пальцами белую кофту на груди, ей было жарко. Я смотрел на нее, на ее полную белую шею, на огурцы и тарелки, на мраморно-пушистого зверя, неслышно ходившего вокруг нас, мне казалось, что сознание мое расширилось до размеров комнаты; если бы я вышел, оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обозреваю вещи, не зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня. Я склонился над столом и, стараясь сосредоточиться, тщательно налил ей и себе.
Подняв глаза, я встретился с ее взглядом, но она смотрела как бы сквозь меня.
«Ну что, Маша?…»
«А?» — сказала она, очнувшись.
«Я что— то забалдел. У тебя водка на чем настояна?»
«А ты кушай. Кушай… Эвон, сальцом закуси».
«Я сыт, Маша».
«Сейчас с тобой отдохнем. Я тебя ждала».
«Сегодня?»
«Я, может, десять лет тебя ждала».
Раздался стук снаружи, я слышал, как Мавра Глебовна говорила с кем-то в сенях. Она вернулась.
«Давай, что ли, еще по одной…»
«Давай», — сказал я. Она поднесла рюмку к губам, я залпом выпил свою.
«Кто это?»
«Листратовна, кто ж еще, глухая тетеря».
«Что ей понадобилось?»
«Да ничего, сама не знает. Увидала небось, пришла поглядеть…»
«Ну вот, я же говорил».
«Милый, — сказала она, — чего ты беспокоишься? Ну, увидела, ну, узнала. Да она и так знает. И шут с ними со всеми! Я тебе так скажу… — Она вздохнула, разглядывая рюмку, отпила еще немного и поставила. — Если б и Василий Степаныч узнал, то, знаешь… Может, и рад был бы».
«Рад?»
«Ну, рад не рад, а, в общем бы, сделал вид, что ничего не знает».
Я ковырял вилкой в тарелке, она спросила:
«Может, подогреть?»
Кошка сидела на подоконнике. Мавра Глебовна продолжала:
«Василий Степаныч человек хороший. Я ему век благодарна. Заботливый, все в дом несет. У нас, — сказала она, — ничего не бывает».
«Что ты хочешь сказать?»
«То, что слышишь. Неспособный он. Уж и к докторам ходил. А чего доктора скажут? Электричеством лечили, на курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе».
«Ты мне уже рассказывала…»
«А рассказывала, так и еще лучше. — Она широко и сладко зевнула. — Устала я чего-то. Не надо бы мне вовсе пить… А может, и напрасно, — проговорила она, взглянув на меня ясными глазами, — я с тобой связалась… А? Чего молчишь-то?»
Ее пальцы, которые я теперь так хорошо знал, отколупнули пуговку на груди, закрыв глаза, она лежала среди белых сугробов на своей высокой кровати, под вечер доила корову, среди ночи вставала и босиком, в белой рубахе, возвращалась с ковшиком холодного, острого кваса. И кто-то шастал под окнами. Мы пили, и обнимались, и погружались в сон. Наутро голубой день сиял между занавесками и цветами, сверкал никелевым огнем и отражался в зеркале, и смутные образы сна не разоблачали перед нами свою плотскую подоплеку, разве только объясняли на причудливом своем языке моему постылому «я», так много значившему для меня, что оно обесценилось в круглой чаше ее тела, в запахе ее подмышек.