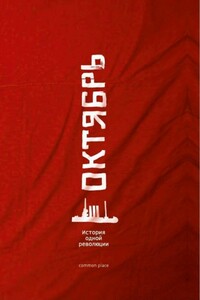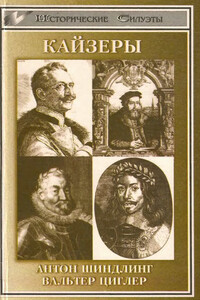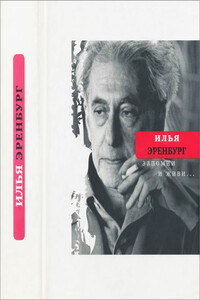— Иван Константинович, может, хватит нам в прятки играть? Я ведь тоже, как вы, люблю — напрямую.
— Давайте — хватит, — с маху соглашается Голованов.
Чуть замешкавшись, я вскакиваю, демонстративно вынимаю из кармана пачку «Беломора».
— Да курите вы тут, пожалуйста! — Буров машет рукой. — Хотите — вон окно откроем.
Не вставая, он поворачивается, тычком распахивает рамы и снова в упор взглядывает на секретаря райкома.
— Все точно, Иван Константинович, было. В среду, можно сказать — в самые рабочие часы, грохнул целый стакан. О причине пока не говорю — неважно… Грохнул, может, там какую щепотку соленой капусты в рот и кинул. И пошел в правление. Позвонили — нужно было что-то подписать…
Я усердно дымлю, стараясь не смотреть на Бурова, — он говорит все так же спокойно, и только побуревшие сухие скулы выдают, что спокойствие это дается ему не просто; усердно дымит и Голованов, своим молчанием как бы подтвердив, что уходить мне не нужно.
— Подписал и сижу тут — в одиночестве, — ровно продолжает Буров. — Правленцы мои не привыкли — чтоб председатель косой был. Сами не входят и других не пускают… А входит вместо них — Фомич, его-то не задержишь. Отношения вы наши знаете… без нежностей. Вошел и с ходу распекать начал — умеет он это — прямо с порога. Ни здравствуй, ни прощай, а сразу быка за рога: «Бардак у тебя, Буров…» Я молчу. Сижу вот эдак же, как перед вами, — рукой подбородок подперши. Спросил что-то, ответил, — может, и невпопад что, не по его. Ну и разило, наверно, от меня — как из бочки. Таких кто, как я, пьет, тех ведь сразу видать… «Да ты что, спрашивает, Буров, — пьяный?» Пьяный, говорю, Андрей Фомич, — неужто не видно? Тут он кулаком по столу и ахнул. Стекло вон какое скрошил — жалко. Кулачище-то подходящий, нерасходованный…
Буров скупо усмехается, сдвигает, справа от себя, стопу газет и журналов — угол шлифованного канцелярского стекла отколот, отбитая часть снежно серебрится мелкими извилистыми трещинами. Ненароком откусив оранжевый фильтр сигареты, Голованов сердито сплевывает с губ табачинки, давит окурок в девственно-чистой пепельнице.
— Много он мне тут… высказал! И справедливого и несправедливого. А я сижу — губы сцепил. Начну, чувствую, — еще хуже получится. С тем он и вылетел, дверью наподдал. — Буров морщится, какое-то время молчит и признается: — Обидно, Иван Константинович, стало… Сорок лет в партии. Никто на меня никогда кулаками не стучал. За последние годы и вовсе отвык… от такого. Понимаю — нехорошо получилось, не оправдываюсь. Думал уж, извиниться надо — не решил пока: за что?
Голованов закуривает снова, предварительно исследовав мундштук сигареты на прочность; в глазах у него — смешинки, может, несколько смущенные.
— В обкоме один товарищ в таких случаях так говорит: вопроса больше нет. — И деликатно, вроде бы не настаивая, спрашивает: — Андрей Андреевич, если все-таки не секрет: а причина?
— Сорвался, конечно, — просто отвечает Буров. — Старший мой, вы знаете, — на полуострове Даманском… А в среду в областной больнице младшему операцию сделали. Гнойный перитонит. Жена там с ним. Позвонила, говорит — плохо. Тут еще без дождей без этих — муторно. Все в ту же кучу. Пришел домой — один, как кулик на болоте. Начал обед собирать — бутылка-то и подвернулась. Час-другой, думал, забудусь, усну — понадобилось документы в банк подписать. Верно, выходит, зубоскалят: один выпил — пьянка, десять человек, под каким-нибудь предлогом, — не пьянка, а мероприятие. Сейчас-то парень на поправку пошел — вечером с женой разговаривали. А то уж лететь к нему собирался…
Все это Буров произносит на одной интонации, ничего не выделяя — как привык, наверно, и в жизни ничего не делить на свое и не свое. Голованов молча слушает, перегоняя сигарету из одного угла рта в другой, — сдерживая себя, кажется.
— Вопроса больше нет, — повторяет он свою шутку, но теперь она звучит по-другому: жестковато; насколько я понимаю, разговор этот будет продолжен — без Бурова.
— Вопрос есть, Иван Константинович, — не соглашается тот. — Пора это кресло кому помоложе занять. Сколько мог — выкладывался. Отпустите — подобру-поздорову.