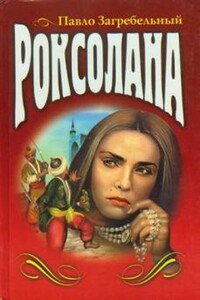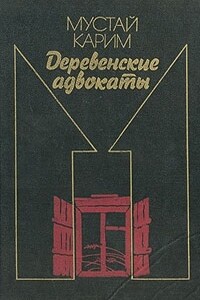– Роксолана? Почему Роксолана? Она же хасеки!
– В гареме ее зовут еще Хюррем, то есть веселящаяся. Иногда – Рушен, или сияющая. А хасеки – это титул. Даже янычарским агам дают такое звание. Чтобы показать, что человек стоит ближе всех к султану, принадлежит султану, как его собственная душа. Для Европы пусть будет Роксолана. Одно ваше донесение в Венецию – и мир узнает о еще одной могущественной женщине.
– А как же с вашим правом крестного отца?
– Уступаю его в пользу Пресветлой Республики, – засмеялся Грити. – Я великодушен, как все купцы, во всем, что не касается их прибыли.
– Невозможно предвидеть все прибыли, какие можно получить благодаря этой женщине, – пробормотал Дзено.
– Добавьте: и весь возможный вред! – воскликнул Грити. – Мы с вами присутствуем при рождении величия, запомните мои слова! Возьмите даже легенды – что они вам дают? Женщина рождается из ребра мужского, одна богиня – из головы Зевса, другая – из пены морской. А какая рождалась из рабства, преодолевая рабство и достигая наивысших высот власти? Советовал бы вам позаботиться о проявлении внимания к этой женщине. Правда, никто еще не знает, что она любит, каким подаркам оказывает предпочтение, кроме того, трудно состязаться в щедрости с Сулейманом. Вы слышали о платье в сто тысяч дукатов?
– Не только слышал, но видел собственными глазами это платье во время торжественного приема в Топкапы.
– Тогда мне уже нечего вам больше сказать.
Неизвестно как, но слухи о непостижимом влиянии хасеки Хюррем, или Роксоланы, на султана почти мгновенно распространились в столице. Русский посол Иван Морозов, который привез от Великого московского князя слова о мире и дружбе, был принят Пири Мехмед-пашой хоть и с положенной торжественностью, но без обещаний.
– Все зависит от милости и воли его величества падишаха, – сказал великий визирь.
Но кто-то намекнул, что полагалось бы поднести дары не только султану, но и султанше, и Морозов отобрал для хасеки драгоценнейших красно-черных соболей.
После Родоса ухудшились отношения между Портой и купеческой республикой Дубровником. Султан не мог простить дубровчанам, что их военные корабли не помогали ему в перевозке войска на остров. Кроме того, среди захваченных в плен защитников твердыни оказалось несколько человек, назвавшихся купцами из Дубровника. Этого уже было более чем достаточно, чтобы на дубровницкие товары немедленно была повышена пошлина, корабли Дубровника в турецких водах безжалостно преследовались, грабились товары, людей забирали в рабство. Из Дубровника прибыло в Стамбул посольство, но его никто не хотел принимать. И снова кто-то подсказал: поднести дары из дорогих тканей молодой султанше, может, это смягчит сурового султана.
Хюррем снова была в положении. Сын Мехмед был такой хилый, что все ждали: если умрет не из-за своей слабости, то уж чума приберет его непременно. Но холодные ветры постепенно отгоняли гнилой дух от Стамбула, чума отступала, крошка Мехмед, хоть и захлебывался криком от неведомых болей, упорно держался за жизнь, а маленькая Хюррем словно бы для того, чтобы окончательно укрепиться и одолеть всех своих завистников и недругов, готовилась подарить султану еще одного сына.
Снова султан не хотел видеть никого, кроме своей Хюррем, ночи проводил с нею, а дни отдавал заботам о справедливости, советовался с мудрецами об улучшении и утверждении законов, о войне больше не вспоминал, словно бы забыл, что его огромное войско, собранное лишь для новых и новых захватнических походов, немедленно распадется, как только остановится в своих грабежах. Когда на диване пузатый Ахмед-паша, который, расталкивая всех, рвался к званию великого визиря, кричал, что пора выступать в новый поход, султан спокойно говорил:
– Пусть уляжется пыль.
– Какая пыль? – таращился, не понимая, на членов дивана Ахмед-паша.
– От великих походов Повелителя века, – спокойно усмехался старый Пири Мехмед-паша.
– Разве новый караван должен ждать, пока засохнет верблюжий помет после каравана старого? – не унимался воинственный Ахмед-паша.
Султан хмуро одергивал нетерпеливого визиря: