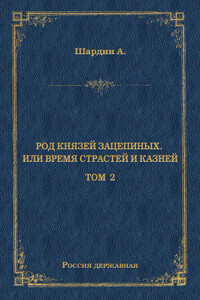– И все обман, обман! Где же правды-то искать?
– Правда на небе, а тут все мы люди, все человецы и все жить хотим! Ермил Карпыч человек начетистый, умный и старую веру до тонкости произошел! И знаешь, что я подозреваю, для кого сегодняшняя-то дивчина была приготовлена?
– Нет, почему же мне знать?
– Да для вашего старого князя!
– Для кого?
– Для старого князя, для дядюшки-то, князя Андрея Дмитриевича.
– Что ты?
– Да, думаю, что для него! Перво-наперво, он такие игрушки любит и на то денег не жалеет; а второе, недаром Ермил Карпыч уж раз пять к нему ходил и все с ним самим говорил; а князь не любит с нашей братией разговаривать; да и еще кое-что я заприметила.
– И часто бывает у вас такое раденье?
– Да на каждый новый месяц, стало быть, тринадцать раз в год.
– И всегда новая девица?
– Ну нет, случается и старая, когда благодати не было! Ведь Ермил Карпыч это лучше самой девицы знает. Ну прощай, нам здесь расходиться! Ты домой, а я к себе! Смотри же, никому ни слова! Обещаешь?
Елпидифор поклялся, и они разошлись.
VII
Что съедено и выпито, то наше
Недели через три после посольского бала князь Андрей Васильевич сидел у себя, в так называемых орлеанских комнатах дома его дяди. Комнаты эти назывались орлеанскими, во-первых, потому, что в них помещался во весь рост портрет герцога Орлеанского, бывшего регента Франции; а во-вторых, потому, что убранство их было скопировано с отделки одного из загородных домов, прославившегося знаменитыми вакхическими ужинами, которые давал в них принц-регент и на которых не раз случалось быть приглашенным князю Андрею Дмитриевичу, так как обе его патентованные фаворитки, де Куаньи и де Шуазель, пользовались всегда особой благосклонностью принца. В этих комнатах, увешанных головками Греза и рисунками Леонарда да Винчи, в своем пудреманте, накинутом вместо шлафрока, в шелковых чулочках и туфлях, шитых золотом, князь Андрей Васильевич выглядел уже совершенно французским франтом-маркизом или петиметром парижских салонов. Обращение шло довольно успешно. Несколько французских книг было разбросано на разных столиках и этажерках; некоторые из них были раскрыты, но Андрей Васильевич ничего не читал; он думал: «Что бы там дядя ни говорил, а он не прав, оставляя без внимания такой прекрасный задаток будущего, как Лизонька Бирон. Правда, она еще очень молода, тринадцать лет, не больше, но она уже фрейлина государыни, и притом через два с половиной года ей будет шестнадцать, и она такая миленькая, такая симпатичная. Дяде, по его летам, разумеется, два года кажутся чуть не веком; но я молод. Для меня два и три года не бог знает что! Через три года мне будет двадцать три, стало быть, по летам я буду ей как раз пара. А она хорошенькая; смугловата немного, но это ничего, это к ней идет; дядя говорит, что она нездорова. Бог даст, выздоровеет. Ведь это все именно критический возраст. Глазенки у нее прелесть, так и бегают; а губки, а маленький ротик – просто очарование. И государыня, видимо, очень ее любит; ну что, если в самом деле она ее дочь? Да, тогда уж не камер-юнкером сделают!»
И честолюбивые мечты разом пронеслись в голове юноши, с их блеском, общим поклонением и роскошью жизни.
«Государыня не стара, – думал он, – ей далеко нет еще пятидесяти. С ее здоровьем, мужественной корпуленциею и крепким сложением она может процарствовать еще двадцать лет, а в двадцать лет уж точно можно поднять свой род, и поднять на такую высоту, что… Положим, что хоть и не будешь владетельной особою… впрочем, почему же и не быть? Ведь стал же владетельным князем ижорским князь Меншиков; или Бирон, теперь ведь владетельный же герцог курляндский и семигальский! От императрицы зависит восстановить, пожалуй, самое княжество Зацепинское и отдать его мне на феодальных правах. Это тем более возможно, что с летами государыня не будет в таком послушании у Бирона, как теперь, и, зная, что он не жалует ее дочь, хотя и признает ее своей, примет всякое возражение от него за видимое нежелание сделать что-нибудь для ее дочери! Эту мысль можно будет в ней развить, поддержать… Я надеюсь на себя, я сумел бы и к императрице стать поближе! А чего ближе – муж ее дочери, родной зять! Наконец, и герцог будет мне номинальный тесть; из одного приличия уж он должен будет помогать мне, а не мешать!