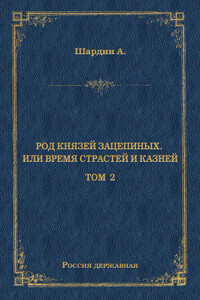– Виноват, маркиза! Благодарю вас, глубоко благодарю за память, да видите, у нас все дни-то какие? Этот Волынский наделал нам хлопот! Целую неделю мы сплошь о нем плачем. Перебрались в свой зимний дом и до сих пор все служим по нему панихиды, то сами, то через своего гофмейстера. А где маркиз?
– Он уехал на печальную церемонию к Густаву Бирону. Сегодня память его жены, знаете – урожденной Меншиковой. Никак не думала, чтобы он был таким нежным супругом. Который год, а все, как вспомнит, бедный, слезы на глазах. Вот чего никак не ожидала от Густава Бирона. Впрочем, говорят, она была прекрасная женщина и мужа своего старалась образовать и возвысить. Умерла она в чахотке, у него на руках. После ссылки все не могла поправиться, таяла как свеча. Вот сегодня по ней, как это у русских говорится, справляют годовую тризну, или панихиду, что ли? И какую-то кутью привозят. В Невском монастыре будет служба. Говорят, весь двор будет, сам митрополит служит. Бирон звал маркиза. Он счел нужным поехать и кутью тоже повезть. Кстати, хотел взглянуть и на эту русскую религиозную церемонию. Что вы задумались? Вы никогда не возили кутью?
– Нет, мне не до Меншиковой и не до кутьи по ней. Признаюсь, меня очень беспокоит прекрасная цесаревна, – отвечал Лесток, садясь против маркизы. – Подумайте, при ее комплекции жить в таком уединении и постничестве. Сегодня она признавалась мне… поверите ли, у ней уже начинаются галлюцинации. Это ведь очень опасно! Приливы крови, истерика, боли сердца – естественное следствие девической, монашеской жизни, особенно без монашеского поста, самобичевания, лишения пищи, умерщвления плоти и прочее. Тут, подумайте, плоть питается чем только можно, тело нежится всем доступным, воображение разжигается и чтением, и картинами светской жизни, и беспрерывным соприкосновением со всем, что только может его воспламенять… И вдруг на такое распаленное, утонченное и разнеженное воображение пост, самый тяжкий, самый убийственный и самый невыносимый пост из всех постов в мире! Я, право, удивляюсь, как она до сих пор еще с ума не сошла. Ведь подумайте, маркиза, ей двадцать восемь или двадцать девять лет, а она чиста, как дева Орлеанская!
– Пожалуй, и все тридцать. Но в ее положении этому горю легко помочь, – смеясь, проговорила маркиза. – Нужно только самой быть не чересчур причудливой.
– Как помочь? Чем и кем? При тех шпионах, которые ее окружают, при той нетерпимости, которую встречает здесь всякое чувство, особенно в высоких особах? Ведь судьба Монса или тем более Глебова не очень к себе привлекает; а всякий знает: покажи она сегодня кому-нибудь свое расположение, завтра же его имя будет у Бирона на столе, и от него будет зависеть, отправить его на легонькую беседу к Андрею Ивановичу Ушакову в застенок. Знаете, тут всякая страсть застынет, всякая решимость пропадет.
– Кто же виноват? Сама не захотела рискнуть! Вы, говорите, уговаривали ее. Теперь бы царствовала спокойно на престоле отца и все бы благоговели у ее ног.
– Да! Она не честолюбива. Десять лет указываю я на эту ее ошибку и, кажется, только сегодня первый раз заставил ее пожалеть о своей нерешительности; первый раз поколебал ее убеждения, и оттого только, что эти беспрерывные казни ей опротивели, а строгость надзора за каждым ее шагом ее возмущает, выводит из терпения. Наконец, и природа начинает брать свое. Но не ручаюсь, что, представься опять случай, пожалуй, она и опять откажется. Между тем случай этот весьма легко может представиться. Вчера я видел императрицу. По-моему, она очень и очень ненадежна. Что с ней, этого без исследования, разумеется, нельзя сказать; но что-то есть внутреннее, решающее, и это что-то может покончить ее разом!
– Это вы сами скажите моему мужу. Мне он не верит. По-моему, она тоже очень нехороша; а он говорит: «Помилуй, посмотри, какая она полная, здоровая! А если бы ты видела, как она скачет верхом, как она стреляет. Можешь быть уверена, что она обоих нас переживет».
– Да, но это экспрессивное состояние натуры подвергает ее еще большей опасности в случае кризиса. Заметили вы, что, когда она идет, у ней во всем теле какое-то дрожание и в походке какая-то перевалка. Это дурной, очень дурной знак.