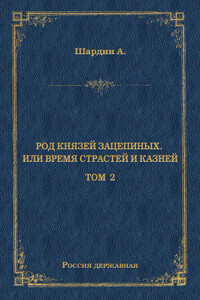Раз цесаревна спросила:
– А что, Алексей, ты не знаешь какого-нибудь романса, песенки или чего-нибудь из простого, нецерковного?
Разумовский задумался на минуту и запел известную малороссийскую песню:
Нежный задумчивый мотив и искренность гармонического малороссийского языка глубоко тронули цесаревну. Перед ней пронеслось все ее детство: с ее великим, вечно занятым и вечно озабоченным отцом, с доброй, но слабой и не владеющей собою матерью; потом интриги и злоба двора, где не было искреннего слова, где все было ложь и притворство, где самое чувство едва только прикрывало порок. И она невольно стала думать о своем серденьке, растерзанном и разметанном бурями жизни прежде, чем оно получило истинный отзыв, прежде чем отразилось оно в чужом чувстве. Разумовский кончил и сидел задумчиво. Она просила повторить, взяла арфу, подобрала тон и запела вместе с ним. Разумовский ее поправлял. Они спелись. И нежная, задушевная, грустная малороссийская песня неслась тихо и стройно по залам дворца.
После они стали часто петь вместе под аккомпанемент арфы. Цесаревна знакомила Разумовского с новыми произведениями итальянской музыки. Тогда в ходу был Спонтини, и Чимароза начинал уже свою славную музыкальную карьеру. Полные мелодии и чувства арии Чимарозы вполне совпадали с их голосами и с их внутренним чувством.
Однажды Левенвольд встретился с цесаревной во дворце и спросил ее: «Угодил ли ей певчий?»
– О да! – отвечала цесаревна, не подозревая в вопросе иронии. – Я очень благодарна вам, граф. Только, к сожалению, у меня часто отнимают его то на службу, то на спевку; ну а в другое время бывает, что и мне некогда!
– Хотите, ваше высочество, я его подарю вам совсем?
– Как это?
– Очень просто! Прикажу исключить из капеллы и зачислить в ваш штат. Нам же из Киева нового баритона прислали, тоже хороший баритон!
– Вы меня обяжете! – отвечала Елизавета Петровна. – Мне очень нравится его голос.
Бывая ежедневно у цесаревны, и уже не как певчий, прикованный к своей капелле хуже чем крепостным правом, а как артист, доставляющий цесаревне удовольствие, наш хохол понемногу начал отшлифовываться и становиться похожим на людей. Им занимались уже и Нарышкин, и Шуваловы, и Лесток, и Воронцов. Особенно же заботилась о нем Мавра Егоровна Шепелева, проводившая целые часы в том, чтобы удовлетворять его любознательность.
– Отчего ты всегда такой грустный, Алексей? – спросила у него однажды цесаревна.
– Як же минi не буть грустным, милостывая цесаревна моя, – отвечал он. – Чи моя жизнь гарно бiжит? Бачу, люди живут, як люди, яж едын як бис, прости Господи, в колпаке!
– Чего же недостает тебе? Ты нуждаешься в чем?
– Hi-нi, милостывая моя государыня! Я не тронул ще йтого, що вы мини на прошлой недiли прислалы! Куды менi и на що? А вот у людей отец есть, маты, братья… А я тут один як перст! Вона слышу: батько умер, а маты и грамоти брата обучить не може.
– Ну, бог даст, обучим! Не скучай! Спой что-нибудь!
Разумовский, под влиянием грустных мыслей, запел:
У сусiда хата бiла,
У сусiда жiнка мила,
А у мене, сиротынки,
Нема́ хаты, нема́ жiнки!
Елизавета взглянула на него: у хлопца на глазах были слезы.
– Ну, не грусти же; о чем такая грусть?
– Як же не грустыть, прекрасная цесаревна! Сиротынкой жив, сиротынкой и умру!
– А как знать, может, бог даст, найдешь кого себе по сердцу, тебя тоже дивчина полюбит, вот и жинка будет; а «хату билу» я тебе выстрою!
– Ни, цесаревна, хто полюбит мене бесталанного? Да йне хочу я ничьей любви!
– А что бы ты сказал, если бы я тебя полюбила? Хохол задрожал.
– Hi, нi! Як же то можно, щоб звiздочка з неба сама упала! Не гарно дразнить удальца! Не быть чистому золоту в деревенской грязи, не гopiть мисюцю ясным солнышком.
Он это говорил, а сам безумно целовал протянутую руку цесаревны и обливал ее слезами…
В то же время молодой Зацепин рассчитывал так: «Гедвига, прекрасное имя! Звучит чем-то средневековым, чем-то романтическим! Гедвига – Елизавета! Разумеется, по-русски нужно звать Елизаветой, но и Гедвига хорошо. Ей скоро будет четырнадцать лет, стало быть, всего ожидать два года, и видимо, что до своего регентства ни герцог, ни герцогиня были не прочь… Теперь дело другое. Зато теперь-то игра и стоит свеч; теперь-то и нужно добиться, чтобы сближение пришло само собой, а с ним и политическое значение рода князей Зацепиных, которых я должен быть представителем». И он задумался. Но через минуту мысли его приняли другое направление. «А то вот еще, – вспоминал он про себя, – вчера провел я вечер у Анны Леопольдовны. Она, положим, мать императора, но в такой мере без значения, что, пожалуй, не смеет переменить своего камердинера без воли герцога. А о цесаревне и говорить нечего: та сама должна зависеть от милостей герцога. Думаю, ей очень обидно зависеть от проходимца! Что ж делать, когда вся сила в этом проходимце, когда все соединилось, слилось в его руках?.. Однако ж все вообще им недовольны. Везде глухой ропот! Я, разумеется, держу себя в стороне, но не слышать не могу. Лизетта говорила, что она боится, что ее названый отец бросится в жестокости. От его характера легко можно ожидать этого. Тогда он погубит себя наверное. Ни Остерман, ни Миних не прозевают. Они следят зорко… Давно я дяди не видал; нужно бы с ним поговорить и посоветоваться, да все с своей Лизонькой вожусь. Этот ребенок, кажется, привязался ко мне искренно. Признаться, и я очень люблю ее, особенно когда вспоминаю, что все же она законная, признанная и единственная дочь владетельного герцога Курляндии и Семигалии и самодержавного регента русской империи. Что тут ни говори, а это стоит того, чтобы подумать, очень подумать и, пожалуй, – прибавил он, засмеявшись, – бросить свою Леклер…»