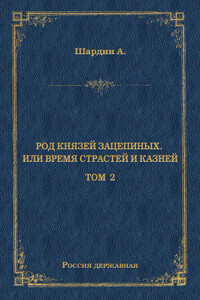Цесаревна опустилась на колени и тепло, с чувством молилась. Но глаза ее были сухи, слезы не шли.
Певчие пели, грустно, заупокойно, в переливах и тонах их слышались слезы, горькие слезы о потере.
Баритон, чудный, нежный, бархатный, с теноровыми нотами, трогающими прямо за сердце, выделывал соло:
Вознесем молитвы ко Господу,
И Он успокоит ны!
Цесаревна чувствовала, что ее действительно схватили за сердце эти слова, и она с растерзанным сердцем, не помня себя, припала головой к паркету и искренне отрешилась от всего живущего в молитве.
А баритон продолжал своим задушевным, серебристым голосом песнь о благодати и радости, о светлом будущем в небесных, загробных странах и разливал отраду, утешение, надежду. Цесаревна заслушивалась этого голоса и с теплой верой твердила: «Боже, прости меня! Помяни мя, егда приедеши во царствие Твое!»
Панихида кончилась, певчие ушли. Зацепин проводил принцессу Гедвигу до комнаты ее отца, а цесаревна все еще стояла на коленях, молясь и вспоминая нежный, бархатный звук: «И Он успокоит ны!»
Другая панихида – и опять то же ощущение; следующая – и опять то же.
После одной из панихид цесаревна не выдержала; она захотела узнать, кто это поет соло, и, подойдя к Левенвольду, спросила:
– У вас в капелле новый баритон, граф?
– Да, это, как его… Разуминский… Размихинский… или как его?.. А не правда ли, ваше высочество, хороший голос? Главное – чистый, молодой, без всяких этих выкрутас итальянских с горловыми украшениями! Просто сильный, грудной и симпатичный голос! Не правда ли?
– Я бы хотела его просить пропеть мне что-нибудь… Признаюсь, в настоящие, грустные минуты музыка и пение для меня одна отрада… Могу я просить…
– Помилуйте, ваше высочество. Он поставит себе за счастие. Сегодня же, после вечерней панихиды, он к вам явится.
Вечером цесаревна сидела в том же своем голландском кабинете, в котором мы видели ее разговаривающей с Лестоком. Ей доложили: певчий из придворной капеллы. От графа Левенвольда, Разумовский. Цесаревна велела его позвать.
Вошел молодой хохол, высокого роста, с бледным лицом, небольшими черными глазами и мягкими черными же и вьющимися волосами. Он был одет в старинный костюм певчих византийских императоров, с откинутыми назад рукавами, обшитый позументами и весьма прикрашенный какими-то узорочными, искусственными украшениями, вроде шнурков, кистей и тому подобного – костюм, сохранившийся для певчих до сих пор.
– Как вас зовут? – спросила цесаревна.
– Алексей Разумовский! – отвечал певчий.
«Алексей… прекрасное, дорогое для меня имя», – заметила про себя цесаревна, вспоминая Алексея Никифоровича Шубина.
– Вы давно в капелле?
– Четыре месяца.
– Можете мне что-нибудь спеть?
– Что изволите приказать, ваше высочество?
– Что-нибудь… что хотите!
Разумовский откашлялся, ударил камертоном и начал своим чистым, бархатным, серебристым голосом:
Свете тихий, святыя славы…
Цесаревна слушала и задумалась. Чем больше она слушала, тем более этот чистый, симпатичный звук доходил до ее сердца, тем большая отрада разливалась в ней самой. Она чувствовала, что под влиянием этого голоса она забывает и свое одиночество, и наносимые ей беспрерывно обиды; она чувствовала, что, слушая его, она прощает своих врагов.
Так на другой день, так и на третий. Раз во время его пения подали чай. Певчий перед тем пел долго. Цесаревна приказала и ему подать чаю. Но как же ему пить? Стоя – неловко! А как посадить певчего в его костюме?
Да зачем он в этом костюме ходит? Оказалось, что ходить ему более не в чем! Есть хохлацкая свитка, да в той и на улицу стыдно показаться, не то что во дворец идти. Цесаревна приказала сшить ему гражданский костюм и напудрить волосы. Тогда она могла, по крайней мере, его посадить.
– Спой, голубчик Алексей, «Да исправится молитва моя!», – приказывала цесаревна уже сидящему против нее в гражданском костюме Разумовскому. – Так грустно, такая тоска на сердце! Все же ведь двоюродная тетка была.
И пел Алексей: «Да исправится молитва моя! Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи!»
Цесаревна заслушивалась. Иногда она тоненьким голоском своим пробовала вторить. И голоса их сливались в восторженной молитве.