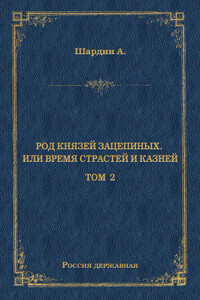И богини тянулись изо всех сил, чтобы угодить.
Лопухин с Бутурлиным и Куракин приехали почти одновременно, а Лестока еще не было. Он поехал к цесаревне Елизавете.
Цесаревна в слезах ждала его с лихорадочным нетерпением. Увидев, что он подъехал, она не выдержала и побежала к нему навстречу.
– Они его взяли у меня, они его отняли! – лихорадочно сказала она, заливаясь слезами. – Доктор, вы правы! Я была глупа, что не воспользовалась! Но разве я могла знать, могла думать? И чего они хотят от меня?
Лесток не отвечал. Он только поднес ее руку к своим губам и увел в кабинет, указывая знаками на необходимость осторожности.
– Что случилось? Скажите! Кто у вас что отнял? Цесаревна, да полноте же!
– Его, его, отняли! Убили его, моего Алексея, моего друга! Может быть, теперь ломают его, пытают, жгут, мучат за меня, за меня!..
– Успокойтесь, цесаревна, что такое случилось, расскажите! Боже мой, разве можно так плакать?
– Они украли его, увезли… Поймите, доктор, я ничего не хотела, ничего не просила у них. Я все уступала им. Они могли рассчитывать, что я женщина, которая сама очень рада избавить себя от всяких хлопот и с удовольствием предоставляет им право думать даже о ней самой. Во мне нет честолюбия.
Я хотела только спокойствия. Вы знаете – я веселого характера; может быть, немножко легкомысленна. Я осталась после матери так молода. Удивительно ли, что мне хотелось иногда повеселиться, хотелось даже иногда помотать. Ведь для молодой девушки в шестнадцать-семнадцать лет это так естественно. А я нуждалась, стеснялась даже в необходимом! Бывало, нужно ехать к племяннику на куртаг или на выход, и я накануне должна была перенизывать свой жемчуг, чтобы было незаметно, что надеваю тот же, который был на мне дня два назад; другого у меня не было. Но я ограничивала себя, стеснялась, уступала место всем: и Меншиковой, и Долгорукой, и Левенвольду, и Бирону… одним словом, всем, кому они хотели, чтобы я уступала! Я не обращала внимания ни на их выходки, ни на клевету, переносила даже оскорбления… Я требовала себе только одного: чтобы меня оставили в покое… Первый раз я приблизила к себе человека; первый раз попросила не за себя, а за него, и что же? Правда, они исполнили мою просьбу, с тем чтобы через несколько недель убить, задушить единственного человека, который мне дорог… Ведь я человек, доктор, поймите это! Я женщина! Не могу же я заглушить в себе всякое чувство, всякое сознание, не могу же быть, наконец, вне желаний, естественных во всякой женщине!
– Так, так, прекрасная цесаревна! Но что же делать? Они боятся.
– Чего? Кого? Меня и гвардейского прапорщика! Ведь это даже и не смешно. Я могла бы и должна их бояться, потому что действительно могу всего от них ожидать… Меня упрекают, зачем я так доступна гвардии, зачем так фамильярно отношусь к каждому солдату, который вздумает ко мне обратиться; но упрек этот совершенно неоснователен. В любви гвардии, в сохраняемой ею памяти моему великому отцу мое спасение! Я сама не знаю как, – при своей молодости, когда скончалась матушка, – надо полагать инстинктивно, но в первый же день, как я осталась сиротой, я почувствовала, что пока меня любит гвардия, они не посмеют со мной ничего сделать, не посмеют даже отравить! Тогда это было инстинктивное движение самосохранения, теперь же это сознательное чувство необходимости опоры. Я знаю, что, пока гвардия меня любит, они могут мучить меня мелкими уколами, но предпринять собственно против меня ничего не смеют… Другое дело в рассуждении человека, который – гвардия не знает этого – для меня все! На нем они могут выместить всю злобу свою, всю свою ненависть ко мне! И мне некому даже сказать, некому довериться… Один вы, доктор, один вы, который отказался меня продать им! Правда, мои камер-юнкеры, моя Мавруша… я в них уверена; но они так еще молоды и так, не в обиду им будь сказано, так незначительны, обставлены так слабо и мизерно, что для дочери Петра Bеликого опираться на них – вещь невозможная, немыслимая! Мой гофмейстер тоже человек честный, но он слишком придворный человек. Он старается не понимать всей неловкости моего положения. Один вы можете пожелать помочь мне, тем более что вы знаете, что я решилась на известный вам поступок отчасти по вашему же настоянию! Помогите мне, доктор, умоляю вас, – спасите от отчаяния, вырвите его из их рук.