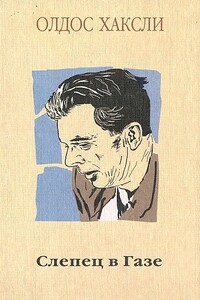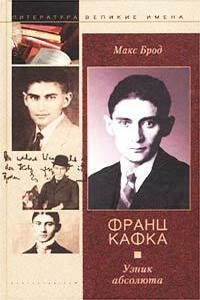Когда? Мантино взглядывает на него как на вредное животное, которое во что бы то ни стало нужно истребить. Взгляд охотника, который убивает со спокойной совестью… Да, это вражда не на жизнь, а на смерть!
Естественную связь, действительно, никогда не удастся уничтожить между евреями.
Но это такая же связь, какая существует между охотником и дичью, между убийцей и жертвой, которые связаны друг с другом, но объединяются не раньше, как в момент уничтожения. У сара пробуждается подозрение, которое он до сих пор отталкивал от себя, насильно задерживал:
— Бандиты в Колизее были твои люди?
Мантино отвечает только кивком головы, серьезно, почти благоговейно, в сознании правильности своих намерений, которые он лишь случайно не осуществил до конца, но от которых он никогда не отречется.
Он словно опьянен честностью и правильностью своих мнений.
Не только за себя лично отказался он от самостоятельной жизни еврейского народа. Он действовал и от имени других. От имени всех евреев. Он не может оставаться равнодушным, если кто-нибудь другой еще верит в эту самостоятельность. С такими преступниками он должен бороться, он должен истреблять их!
Реубени понимает это, — и даже здесь он готов найти некоторое величие. Но он в ужасе отскакивает назад, когда Мантино с искаженным от злобы лицом показывает ему книжку, в которой записаны проповеди Мольхо.
— Я сам, — задыхаясь, хриплым голосом кричит Мантино, забыв всякую искусственную сдержанность и размахивая руками. — Я сам — не кто-нибудь другой, — сам ходил туда — каждую субботу — записывал — чтобы навсегда прекратить, уничтожить зло в корне! И чтобы теперь для этого богохульника, которого я сам!..
— Молчите, молчите!
Мантино широко растопыривает пальцы.
— Я сам донес на него инквизиции как на богохульника.
Реубени, плача от стыда, добирается до двери. Колени дрожат у него. «Мой соплеменник и брат, к которому я спешил на помощь из Хабора»…
Словно в тумане он видит, как Мантино подходит к шкафу и поспешно опорожняет бокал с вином. Жалко трясущаяся верхняя губа и этот испуганно болезненный жест, с которым толстый человек хватается левой рукой за грудь у сердца, словно его что-то кольнуло, — эта картина кажется сару символом того сопротивления, которое внутренне больной народный организм оказывал его плану.
Он возвращается в свою трущобу, достает пергамент, долго неподвижным взором смотрит на буквы. «И на этом пергаменте я хотел воздвигнуть храм!..»
Летят клочья.
«Кто же, в сущности, был безумец — Мантино, Мольхо или я?»
На этот раз суд был прост: Мольхо все признал. Возвращение в иудейство, отказ от раскаяния, — при таких условиях приговор не вызывал никаких сомнений.
И тем не менее случилось нечто совершенно неожиданное, нечто такое, чему трудно было бы поверить, если бы это не было подтверждено вполне тождественными между собою сообщениями современников, а также письмом Мольхо к мудрецам в Салониках — письмом, которое много раз перепечатывалось и дошло до нас.
Казнь совершилась, костер горел.
Но когда судьи отправились в Ватикан, чтобы сообщить папе о том, что его любимец казнен, из внутренних покоев к ним навстречу вышел Мольхо, прекрасный и невредимый. Как перед адским наваждением, они разбежались, увидев этого призрачного двойника.
В течение многих дней никто в Риме не мог сказать, умер ли Мольхо или жив. По этому поводу ходили самые невероятные россказни.
Со слов посвященных рассказывали, что в вечер накануне казни в инквизиционную тюрьму к Мольхо явился офицер швейцарской гвардии и помог ему бежать. Этого офицера послал сам папа, но план не удался бы в такой мере, если бы час спустя в пустую камеру Мольхо не зашел другой человек…
О том, как удалось бежать Мольхо, и впоследствии не узнали ничего определенного. Несомненно было только, что вместо него по ошибке взяли другого и потащили на место казни. Несчастный, который пострадал за него, не мог объяснить ошибки, потому что он был нем.
Это был слуга Реубени, старый глухонемой Тувия, которому в силу случайного сцепления обстоятельств пришлось умереть на костре.
Целые дни и ночи Реубени и Тувия бродили около тюрьмы, всячески стараясь проникнуть к Мольхо. Наконец, слуге это удалось. На его несчастье.