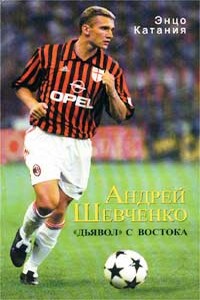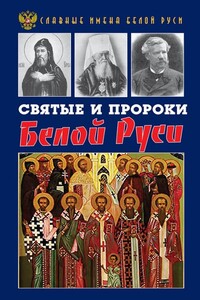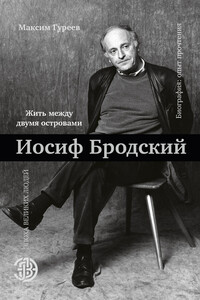В те тяжелые дни в Тбилисском оперном театре давались спектакли и концерты, о которых мечтал бы каждый и в мирное время.
Настоящий праздник высочайшего искусства! Нет, это ничем не напоминало пир во время чумы. Это было, скорее, проявлением веры в свои силы, убежденности в победном исходе войны. Все отдавая фронту, народ продолжал жить напряженной, но полнокровной жизнью. Ведь нашли в себе силы герои обороны Ленинграда в тяжелые дни блокады грянуть седьмой симфонией Шостаковича, потрясшей весь мир и врага в первую очередь.
Отрывки из спектаклей Художественного и Малого театров, арии из опер, балетные дивертисменты, замечательные чтения Василия Ивановича Качалова, встречи и беседы Немировича-Данченко, посещение им спектаклей и репетиций в театрах Руставели и Марджанишвили, лекций в театральном институте. Все это наполняло город удивительным ароматом театральных грез. Тбилисцы видели все это, присутствовали на этих удивительных вечерах. Счастье было столь огромно, что порой забывалось: враг ведь в двухстах километрах от города.
Когда слух об эвакуации мхатовцев прошел по Тбилиси, мало кто поверил в это, скорее, было не до этого. Ошеломляющее начало войны подавляло и угнетало. Мы, юноши, свыклись с мыслью, что непобедимая Красная Армия мгновенно разгромит противника — и сделает это, как нас учили, на территории врага. Трудно было поверить в то, что происходило на самом деле: раз за разом проигрывались отдельные битвы, оставлялись десятки городов и сотни сел. Ленинград — в блокаде, фашисты — под Москвой, фронт вплотную приблизился к главному Кавказскому хребту. После полуночи Тбилиси погружался в кромешную темноту. Мы с трудом находили дома и квартиры друг друга. Если собирались, сидели в темноте. Почти в каждой семье лежали извещения о гибели близких. Место наших постоянных встреч, всегда праздничный и шумный проспект Руставели, который, по инерции все называли Головинским проспектом, потерял свою прелесть и праздничность, как-то приуныл, а с наступлением ночи вовсе терял свое лицо, становился холодным и чужим.
Все было необычно. Мы не понимали, почему в срочном порядке отвели большое здание рядом с фуникулером под военный госпиталь, пока не увидели первых раненых в городе. Это были военные моряки. Я впервые увидел воочию человека в тельняшке, притом тяжело раненного. Раньше тельняшка мелькала только на экране и в спектаклях. Несколько раз появились над городом «Мессершмитты». Зенитчики открыли по ним огонь. Мы подбирали осколки снарядов, но делали это как-то весело и задорно, еще не до конца понимая весь ужас происходящего. Война казалась нелепой, происходящей где-то в другой части планеты…
Ребята сразу пронюхали, где разместились мастера искусств, и мы всей ватагой шли к гостинице «Тбилиси», что напротив нашей школы, рядом с Театром Руставели.
Так было угодно судьбе, что все главные события моей жизни происходили именно здесь, на этом родном, дорогом моему сердцу пятачке. Здесь я десять лет проучился в школе, потом, перейдя наискосок, чуть левее, переметнулся в театральный институт — еще на четыре года, затем всего лишь спустился вниз на три этажа, в Театр Руставели — плюс еще двадцать два года. Прибавьте к ним три года, проведенных опять-таки в первом детском саду, в сумме получится почти сорок лет жизни — с трехлетнего возраста до ранга молодого, но почтенного дедушки. Кто мог подумать, что мне когда-нибудь придется расстаться с этим пятачком, перейти в другой театр и начинать все сначала, почти с нуля. Но это — другая глава моей жизни…
Итак, мы у гостиницы «Тбилиси». Народу — полным-полно. Всем хочется увидеть живьем Немировича-Данченко, Качалова, Книппер-Чехову, Тарханова и других. Немирович-Данченко — это особая статья. То, что он тбилисец, знали все, но не всем было известно, что он воспитанник первой гимназии. «Наш!» — с гордостью говорили мы. Его фамилия украшала доску у входа в школу с именами выдающихся деятелей — выпускников гимназии и школы. Уточнить, в каком классе, в какой комнате, за какой партой он сидел и учился, так и не удалось. Вот мы и уверяли всех, что это было именно в нашем классе. За неимением опровергающих фактов, остальным приходилось нехотя соглашаться. Но мало кто знал тогда, что Немирович-Данченко родился рядом с моей деревней Натанеби, в селе Шемокмеди Озургетского района, где сейчас открыт Дом-музей. В юношеские годы все это, как мне казалось, возвышало меня над сверстниками. В глубине души я считал себя самым близким человеком высокого гостя.