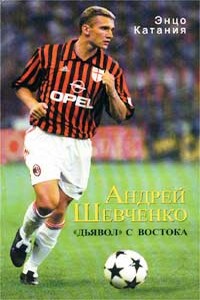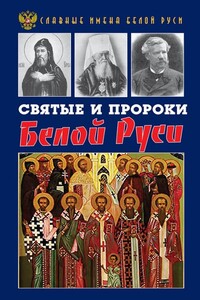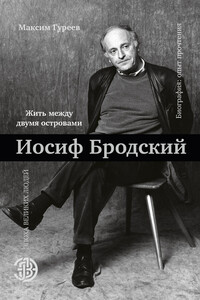— Чего вы в обход-то действуете? Атакуйте прямо. Билеты вам нужны, да?
Мы с Нодаром стыдливо опустили глаза и кивнули головой.
— Завтра в 3 часа встретимся на этом месте. Смотрите, опоздаете — ждать не буду.
Что значит опоздаете?! Пришли на час раньше назначенного времени. Получили обещанные билеты и задолго до начала матча пошли на стадион, не веря своему счастью. Это и вправду было пределом наших мечтаний — сидеть на северной трибуне рядом с самим Борисом Пайчадзе и наблюдать за игрой сборной СССР с самим чемпионом мира. И вдобавок ко всему встреча завершилась победой нашей команды.
Поди забудь такой день!
Уже после мы очень сблизились, можно сказать, подружились. Борис Соломонович до преклонного возраста был директором спорткомбината «Динамо», куда входят наш любимый стадион, носящий ныне его имя, баскетбольный и боксерский залы, плавательный бассейн и многое другое. Я приступил к работе комментатора, и само дело сближало нас…
…Как-то вечером он позвонил ко мне домой и попросил зайти. Минут через десять я был у него.
— Скоро мой юбилей, — начал Пайчадзе. — Уже шестьдесят, представляешь?
Я, естественно, знал об этом. Спортивная общественность республики особо готовилась к этому событию.
— Не хотел справлять, но настояли. Будут выступать, хвалить, переборщат, наврут, будет много лести. Не люблю я всего этого. Все одинаково, неправдоподобно хвалят — и плохого, и хорошего. Предлагали разных докладчиков — отказался. Родился в таком-то году, сыграл столько-то матчей, забил столько-то и т. д. Разве это дело? Если не против, уважь, выступи ты и толкни какой-нибудь необычный «спич», без всяких восторгов и громких слов. Ну что, согласен?
Как я мог отказаться?! Сразу же согласился, втайне гордясь, что его выбор пал на меня. И чтоб следовать строгому наказу Пайчадзе, скажу «без громких слов»: это было одно из самых лучших моих выступлений…
Заканчивая рассказ о Борисе Пайчадзе, хочу привести пару примеров из «эпистолярного жанра», адресованного легендарному футболисту.
В первые послевоенные годы по письмам и телеграммам болельщиков проводился один из знаменитых спортивных плебисцитов с целью выявления лучших спортсменов года. Среди многих писем было одно из тогдашнего Куйбышева. Его автор спортсменом № 1 назвал Пайчадзе, тут же пояснив, что делает это, несмотря на то, что никогда в жизни не видел его на футбольном поле. «Но я видел тбилисского динамовца Гайоза Джеджелава и был потрясен. Если так бесподобно играет Джеджелава, то каким же должен быть Пайчадзе!»
Заслуги Пайчадзе не раз отмечались высокими правительственными наградами. Когда он получил свой первый орден, среди многих поздравлений была одна телеграмма, которая заканчивалась словами: «С вами не знаком, но не мог не приветствовать большого художника и не поздравить с высокой наградой. Если когда-нибудь вам понадоблюсь, очень прошу обратиться. Я — композитор, живу в Ленинграде. Мой адрес: Ленинград, 101, Большая Приморская, 59. Дружески жму вашу руку. Дмитрий Шостакович».
Тбилисская зима 42-го года
Это была удивительная зима в Тбилиси. Большая группа выдающихся деятелей искусства из Москвы, Ленинграда, Украины была эвакуирована в столицу Грузии. Немирович-Данченко, Качалов, Книппер-Чехова, Рыжова, Тарханов, Массалитинова, балерина Марина Семенова, певцы Гришко, Частий, Кипоренко-Доманский, известные композиторы и пианисты Сергей Прокофьев, Игумнов, Гольденвейзер и многие другие. Приехал к себе на родину и Вахтанг Чабукиани.
…Свыше 400 тысяч своих сынов послала Грузия на защиту родины. Они героически сражались на фронтах войны. Более 200 тысяч из них сложили головы в битвах с фашистами. Это общеизвестно. Возможно, эта цифра не производит впечатления. По сравнению с ужасающими жертвами войны и потерями других народов, конечно же, это — капля в море, но факт и то, что вся Грузия оделась в шинель, и больше некому было идти на смертный бой. Как известно, ни один танк не прорвался на территорию республики, ни один вражеский солдат не ступил на ее землю. Не было уличных боев ни в Тбилиси, ни в других городах. Воины-грузины бились за Москву, Ленинград, Сталинград, штурмом брали Варшаву, Вену, Будапешт, наконец, дошли до Берлина и водрузили Красное Знамя победы над Рейхстагом. Сделали это русский воин Егоров и грузин Кантария…