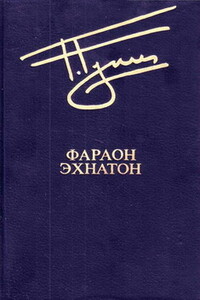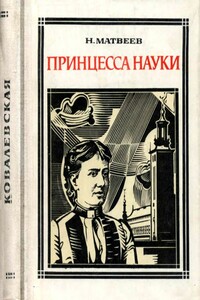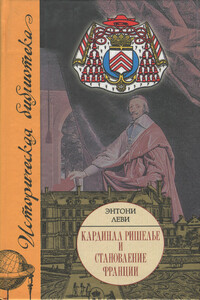За обедом уже шел деловой разговор. Отец круто бросил всего одну фразу:
– Геррит теперь не работник.
У матери хлынули слезы. Лисбет опустила голову. Адриан сказал:
– Отец, не горюй сверх меры. На что же я здесь?
А Рембрандт молчал. Наверное, ему следовало заверить родителей, что можно в мельничном деле положиться и на него, как на Адриана. Но он не мог выговорить того, что не было в помыслах. Поэтому-то и молчал. Как селедка, выброшенная на дюны.
Отец успокоил:
– У меня сил пока хватит. А ежели Адриан бросит свое башмачное ремесло и встанет рядом – вообразите, что это будет?
Адриан заверил отца, что закроет свою лавку и целиком отдастся мукомольному делу. Неужели он оставит семью в беде? Пусть Геррит и Рембрандт знают: Адриан будет работать за троих.
– Почему же за троих? – Отец перестал жевать. Потянулся за стаканом пива.
– А как же, отец?! За себя. – Адриан загнул один палец. – За Геррита. – Загнул другой палец. – И за него. – Он кивнул на Рембрандта. – Мы же не допустим, чтобы парень бросил университет. Верно говорю?
Мать вытерла глаза. С умилением посмотрела на сына, который так силен, что может работать за троих, и к тому же так благороден.
– Когда мы воевали за принца Оранского, – сказал отец, – мы воевали и за двоих, и за троих, а то и за четверых. Как придется. Потому что жизнь требовала. Я вижу, что в моем сыне течет кровь его предков, которые свергали испанцев. – И старик отхлебнул пива.
Лисбет не удержалась от колкости:
– А Рембрандт молчит…
– Что же мне говорить? – Рембрандт ни на кого не смотрел, в свою тарелку уставился.
Адриан не одобрил поведение младшей сестры. Все уже сказано, и достаточно ясно. О чем может быть разговор? Только ради разговора? Рембрандт должен учиться. Это давно решено. И возвращаться к этому не следует.
– Он учится рисованию? – с невинным видом спросила Лисбет.
Отец и Адриан вопросительно уставились на Рембрандта. Эти простые люди, преданные своему делу и верные своему слову, полагали, что каждый говорит правду, и только правду. Говорит то, о чем думает, и не кривит душой.
– Ты хочешь сказать что-нибудь, Рембрандт? – Отец говорил жестко.
– Нет, ничего.
– Совсем ничего? – вопросил Адриан.
– Пока ничего.
Вроде бы все предельно ясно.
Мать сказала хриплым, простуженным голосом:
– Сейчас сказать ему нечего. И не надо. Ежели что и придется – скажет в свое время. Правда?
Рембрандт молча кивнул.
– Вот видите, он же ничего не говорит. Он слушает, как и подобает доброму сыну и брату. Слышишь, Лисбет? И перестань задавать дурацкие вопросы!
Лисбет прикусила язычок.
– Схожу на мельницу, – сказал Хармен Герритс. И встал из-за стола, шумно отодвигая скамью.
Рембрандт молча доедал обед.
Яну Ливенсу Рембрандт сообщил очень коротко:
– Брат свалился с лестницы.
– Он был пьян?
– Нет.
– Ему плохо, что ли?
– На всю жизнь калека. – Больше ничего не добавил к своему сообщению Рембрандт. Он запомнил слова одного мельника: никого особенно не волнуют твои несчастья, поменьше распространяйся о них. У каждого своя беда на гряде.
Ян Ливенс спросил:
– Мы пойдем к мастеру Сваненбюргу?
– Может быть.
– Сегодня?
– Это к спеху?
– Нет.
– Тогда пройдемся по Хаарлеммерстраат.
– К этой красотке?
– Может быть, – пробормотал Рембрандт и убыстрил шаг.
Тот дом стоял слева. И окно находилось слева, если смотреть на дом с противоположного тротуара. Рембрандт пошел медленнее, скосил взгляд.
– Занавески… – сказал Ливенс. – Птички нет дома…
Да, похоже, их плотно сдвинули. Чистенькие, кремового цвета занавески.
И Рембрандт бросился вперед как угорелый.
– Ты что? – попытался остановить друга Ливенс.
Но куда там! Рембрандт бежал стремглав.
В конце улицы – довольно длинной – Рембрандт сказал:
– А можно к мастеру сегодня?
– Я же предлагал.
– В университет я больше не ходок. Довольно с меня всяческой премудрости.
Ян Ливенс поддержал его в этом важном решении. Он сказал:
– В таких случаях говорят: жребий брошен.
– Да, брошен, Ян. Если даже и допускаю ошибку.
– Что скажут домашние? Ты с ними советовался?
– Нет.
– Так как же?
– Веди меня к нему! Посмотрим, что он скажет.
– Надо взять с собой тетради. Все до одной.