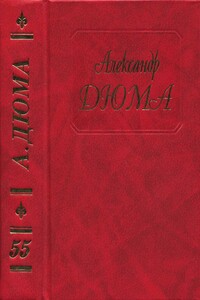После этой бесполезной борьбы, после этих бесплодных усилий освободиться от ребенка, она, не помня себя, убегала в поля, обезумев от горя и ужаса.
Однажды утром ее нашли у ручья: ноги ее были опущены в воду, глаза блуждали; решили, что это припадок безумия, но ничего не заметили.
Неотступная мысль овладела ею: удалить из своего тела этого проклятого ребенка.
Как-то вечером мать, смеясь, сказала ей:
— Как ты толстеешь, Елена, будь ты замужем, я подумала бы, что ты беременна.
Эти слова, должно быть, произвели на нее впечатление смертельного удара. Она почти тотчас же ушла от матери и вернулась домой.
Что она сделала? Вероятно, еще раз долго рассматривала свой вздутый живот, вероятно, опять била его до синяков и колотилась об углы мебели, как делала это каждый вечер.
Затем она босиком спустилась на кухню, открыла шкаф и достала большой кухонный нож, которым резала мясо. Потом вернулась к себе наверх, зажгла четыре свечи и села на плетеный стул перед зеркалом.
И тут, вне себя от ненависти к этому неведомому и грозному зародышу, желая, наконец, вырвать и убить его, желая добраться до него, задушить его и отшвырнуть прочь, она нажала то место, где шевелилось это полусущество, и одним взмахом отточенного лезвия вскрыла себе живот.
О, несомненно, операция была произведена быстро и удачно. Ей удалось схватить его, этого недосягаемого для нее врага. Она схватила ребенка за ногу, вырвала его из себя и хотела было кинуть в пепел очага. Но младенца держали связки, которых она не смогла разрезать, и, прежде чем она успела понять, что ей оставалось делать, чтобы отделить его от себя, она упала бездыханной, заливая его своей кровью.
Так ли уж была она виновна, сударыня?
Доктор замолчал и ждал ответа.
Баронесса не сказала ни слова.