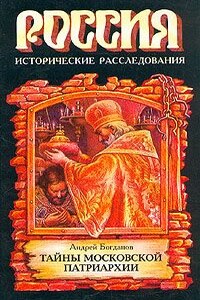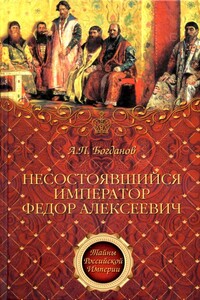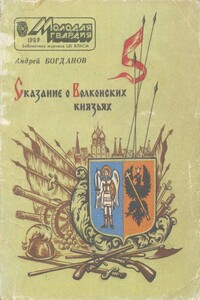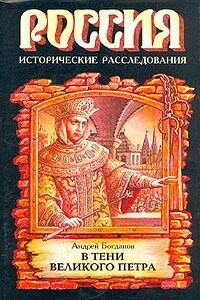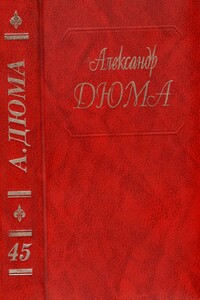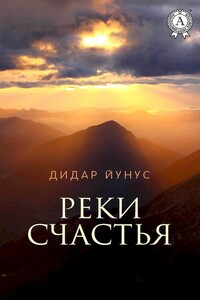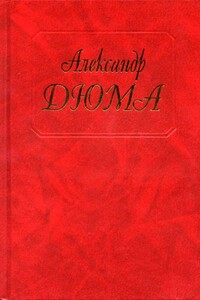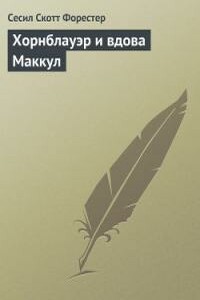Летописец явно видел цель похода русского войска непосредственно в захвате Корсуня, а может быть, и его владений, а также иных крымских территорий. В одном из списков Ипатьевской летописи рассказ о том, как Владимир «поиде на Греческую землю и пришед ко Корсуню», завершается словами: «Приём же Володимер град греческий Корсунь (ныне же тамо Крым) и весь тот остров, глаголемый Таврику». Насчёт захвата всего «острова» сказано, конечно, слишком сильно. Но один из иностранных учёных отметил, что после похода киевского князя «за невестой» исчезла из списка византийских владений в Крыму фема Боспора Киммерийского (то есть Корчева, или Керчи), возникшая после войны императора Иоанна Цимисхия со Святославом и восстановленная лишь столетие спустя. И военная экспансия Владимира не вызовет удивления, если вспомнить, что в договорах с греками Игоря и Святослава оговаривалось обязательство русских не нападать на «страну» или «власть (область, — Авт.) Корсуньскую и елико есть городов их». Обязательство, с которым киевские князья, очевидно, не особенно считались.
Одним словом, войдя в Таврику, Владимир должен был растечься войском по полуострову уже в силу, так сказать, исторической инерции.
Каким путём Владимир шёл на Корсунь, большое ли войско вёл за собой — документы не сообщают. Поэтому мнения историков разделились. Некоторые из них, начиная с Н. М. Карамзина, предполагают, что русская рать спустилась в ладьях по Днепру и направилась к южному побережью Таврики кратчайшим морским маршрутом. Есть сторонники и сухопутного похода. Я, вслед за академиком Б. Д. Грековым, думаю, что Владимир, подобно Олегу и Игорю, снаряжавшим экспедицию в далёкий Царьград, двинулся в Крым «на конех и в кораблех», то есть и по суше, и по воде, хотя не исключаю и одного только первого или второго варианта. Конница необходима была Владимиру и для продовольственного обеспечения осады, и для рейда сквозь херсонесскую и боспорскую фемы к Керченскому проливу. Наличие в составе войска степняков (чёрных болгар) подтверждает такое предположение. Флот, конечно, тоже был полезен — как для блокады Корсуня с моря, так и для операций вдоль побережья и даже, может быть, в сторону Константинополя. Но его участие в походе возможно лишь при условии, что русские появились под Корсунем летом (по мнению большинства исследователей, в июле — августе). Потому что сравнительно безопасное плавание по Чёрному морю, особенно для таких мелкосидящих судов, как славянские ладьи, ограничивалось периодом с середины мая до начала сентября. Численность Владимировой рати (кроме чёрных болгар, здесь были варяги, а также кривичи и словене, то есть смольняне и новгородцы), по вычислениям А. Л. Бертье-Делагарда, не превышала 6—8 или даже 5—6 тысяч «воев». Да и этого для города, предоставленного собственным силам и воле судьбы, города с населением не более 10 тысяч, на его взгляд, было слишком много. И всё дело в том, что Владимир готовил дружины не для Корсуня, а для помощи василевсам против Варды Фоки, которую вынужден был задержать из-за неприезда Анны.
Не обсуждая это предположение, думаю, что 6—8 тысяч — цифра минимальная. Тем более если Владимир шёл не только на Корсунь, но собирался увидеть и силуэты Корчева, чтобы убедиться в безопасности созидаемой здесь тмутороканской Руси. Если его угрозы двинуться из Крыма на Константинополь не имели единственной целью лишить будущих родственников душевного равновесия (что, по свидетельству Зонары и Кедрина, киевскому князю вполне удалось). Да и сам Корсунь был очень крепким орешком, о чём Владимир, несомненно, хорошо знал. Правда, население города не достигало, по-видимому, и той цифры, которую назвал Бертье-Делагард, и составляло 6—7 тысяч человек, что, впрочем, совсем немало для средневекового города. Это значит, что Корсунь мог выставить для своей защиты максимум тысячу воинов — рыбаков, моряков, крупных и мелких торговцев, ремесленников различных специальностей — гончаров, кузнецов, строителей, ювелиров и т. д. Но в нём, вероятно, находился и византийский гарнизон, возглавляемый военным и административным главой фемы — стратигом, носившим высокий придворный чин протоспафария