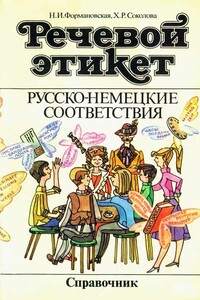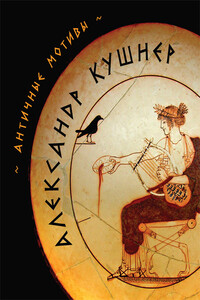Различия в степени вокализованности сонорных и их роль в противопоставлении центральных и периферийных говоров - страница 8
Как ассимиляция в сочетаниях двух сонорных [нʼј] и [лʼј] начался, по-видимому, в свое время (после утраты редуцированного перед [ј]) и процесс в словах типа весе́лье, свинья́, широко известный западным говорам и имеющий рассеянное распространение в северных. В настоящее время такое произношение охватывает и сочетание других мягких согласных с [ј] (т. е. также пла[тʼтʼ]е, коло́[сʼсʼ]а и др.). Однако есть ряд фактов и соображений, позволяющих предполагать, что на сочетания других мягких согласных такое произношение распространилось позже и не как фонетический процесс, а как фонетическая модель произношения этих сочетаний в определенных положениях в слове.
В. Н. Чекман[32] указывает на необходимость при рассмотрении процессов йотации и ассимиляции [ј] «обращать внимание на фонетические особенности самого йота» (с. 71), варьирующегося в языковых системах от шумного фрикативного согласного до неслогового гласного. Он также отмечает: «Зависимость хода йотации от природы предшествующего согласного, различная «валентность» согласных по отношению к i̯ обусловливают одну важную черту йотационных процессов — их поэтапность. Тот факт, что в языке палатальными стали, к примеру, lʼ, nʼ < li̯, ni̯ вовсе не обозначает, что параллельно с ними йотировались и остальные группы Ci» (Там же)[33]. Здесь со всем можно согласиться. Но, исходя из этого, можно славянскую йотацию этого позднего периода интерпретировать более конкретно, признав, что по существу она проявилась как процесс регрессивной ассимиляции между парами сонорных [nʼj] и [lʼj], в которых [ј] — сильно вокализованный (слабо шумный!) сонорный, приближающийся к [і]. Именно таким характером [ј], т. е. слабой выраженностью его консонантных свойств, обусловлена его неспособность оказать то преобразующее воздействие на зубные и губные согласные, которые он оказывал в предшествующий период развития славянской фонетики (ср. «переходное» смягчение зубных svět-ja > свеча, med-jа > межа и выделение эпентетических звуков у губных). «Поэтапность» же в этом случае следует, по-видимому, понимать не как чисто фонетический ход развития процесса с охватом в дальнейшем других категорий согласных, а как расширение сферы употребления двойных мягких согласных (в первую очередь взрывных и фрикативных зубных) в соответствии с новыми сочетаниями этих согласных с [ј] уже по законам распространения фонетической модели.
О вероятности такой трактовки могут свидетельствовать и современные диалектные данные. Во-первых, это статистика, показывающая, например, что в сочетаниях с [ј] случаев удвоенного [нʼ] в материалах содержится примерно в 2 раза больше, чем удвоенного [тʼ] (сравниваю сочетания [ј] с наиболее частотными из этих двух групп согласных: сонорных и зубных шумных). Однако это соотношение может давать неточную картину из-за незнания реальной употребительности соответствующих сочетаний в диалектной речи. Во-вторых, и это представляется более важным, удвоение мягких согласных отмечается обычно на стыке морфем: корня и суффикса или основы и окончания, т. е. в случаях, где возможны процессы аналогии. Последовательное удвоение согласных именно в этой позиции подчеркивает в своей работе Л. К. Андреева, специально занимавшаяся этой темой[34]. Внутри или в начале корня это явление отсутствует. В словах дьяк, дьячок, дьякон, дьявол[35], в местоимении чья, в глаголе шить (шјот и др.) удвоения не происходит (исключения единичны). Однако в той же позиции сонорный согласный л последовательно удлиняется в формах глагола лить ([лʼлʼ]у, [лʼлʼ]от и др.). Таким образом, в этой позиции не происходит удвоения несонорных согласных и, наоборот, удвоение происходит, если согласный сонорный. Л. К. Андреева этого не замечает.
Преобладание сонорных или исключительно только сонорные фиксируются в формах с удвоенными согласными во всех извлечениях из памятников XV—XVII вв. (см., например, у Л. К. Андреевой на с. 61 из 7 примеров — 6 с сонорным, у С. И. Коткова