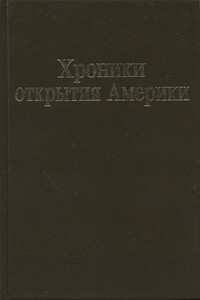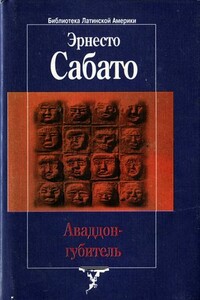— Я уже пообедал, заказывай себе, — говорит Сантьяго.
— Два «кристаля» похолодней, — сложив руки рупором, кричит Амбросио. — Порцию рыбного супа, хлеб и менестру[5] с рисом.
Не надо было с ним идти, Савалита, не надо было заговаривать, ты ж не совсем еще спятил. Опять начнется этот кошмар, думает он. И виноват будешь ты, Савалита. Бедный отец, бедный старик.
— Тут шоферы собираются, работяги с окрестных заводиков. — Амбросио словно извиняется. — Приходят даже с проспекта Аргентины: кормят здесь сносно, а главное — дешево.
Паренек приносит пиво, Сантьяго наполняет стаканы — за ваше здоровье, ниньо, за твое, Амбросио! — и какой-то сильный нераспознанный запах ослабляет волю, кружит голову, тащит наружу воспоминания.
— Что же это за работенку ты себе отыскал, Амбросио? Давно ты на живодерне?
— Месяц. И то, спасибо бешенству, мест-то нет. Да уж, работенка аховая, на износ. Только когда на ловлю едешь, можно дух перевести.
Здесь пахнет потом, луком и едким перцем, мочой и плотно слежавшимися отбросами, и знакомая музыка, пробившись сквозь гул голосов, рычание моторов и вой автомобильных гудков, становится неузнаваемой, вязко забивает уши. Бродят между столами, облепляют стойку, толпятся у входа остроскулые, опаленные солнцем люди, и глаза у них не то сонные, не то посоловевшие. Сантьяго достает сигареты, Амбросио закуривает, а докурив, швыряет чинарик на пол, растирает его подошвой. Он шумно хлебает суп, жует рыбу, обсасывает кости до блеска, а сам слушает, или отвечает, или спрашивает, и отламывает кусочки хлеба, большими глотками пьет пиво и вытирает пот со лба: да, ниньо, время летит — не угонишься. Чего я тут сижу, думает Сантьяго. Надо уходить, думает Сантьяго и требует еще пива. Наливает пиво, обхватывает пальцами свой стакан и, говоря, вспоминая, грезя наяву, думая, не сводит глаз с шапки пены, где словно на распяленных в приступе рвоты пастей извергаются, вздуваются и опадают в желтой жидкости, уже согревшейся от тепла его ладоней, красные пузыри. Он пьет, отрыгивает, тянется за сигаретой, наклоняется погладить Батуке: все позади, собачка, наплевать и забыть. Он говорит, и говорит Амбросио, нижние веки его набрякли и посинели, ноздри раздуты, как будто он бегом бежал и запыхался, он сплевывает после каждого глотка, провожает тоскующим взглядом мух, он слушает, улыбаясь, хмурясь, смущаясь, а в глазах у него по временам мелькают то гнев, то страх, а то вдруг исчезает всякое выражение. Иногда он кашляет. Курчавые волосы уже кое-где поседели; поверх комбинезона на нем пиджак, бывший когда-то голубым, имевший когда-то пуговицы, высокий воротник наглухо застегнутой рубашки удавкой впивается в шею. Сантьяго глядит на его огромные башмаки — грязные, корявые, стоптанные, уделанные временем. Голос его звучит с неуверенной запинкой, иногда совсем пресекается, становится предупредительно молящим, потом снова крепнет — сокрушенный, или тревожный, или почтительный, но это всегда — голос побежденного: какие там тридцать лет?! Амбросио постарел на все сорок, а может, и на сто. Он не только состарился, осунулся и опустился — его, должно быть, догладывает чахотка. Да, жизнь задолбала его в тысячу раз крепче, чем Карлитоса, чем тебя, Савалита. Пора идти, думает он и заказывает еще пива. Ты напился, Савалита, сейчас расплачешься. В нашей стране жизнь с человеком не цацкается, ниньо, с тех пор, как я от вас ушел, столько всякого повидал — ни в каком кино не покажут. Жизнь и с ним тоже круто обходится — и Сантьяго заказывает еще пива. Тошнит его, что ли, блевать тянет. Острая, обволакивающая вонь — запах жареного, запах подмышек и потных ног — колышется над косматыми и гладкими головами, над напомаженными коками, над стесанными затылками в брильянтинных зализах и перхоти, а музыка то громче, то тише, то громче, то тише, и вдруг, явственней довольных лиц, квадратных ртов, смуглых гладких щек, выплывает из памяти какая-то гнусь. Еще пива! Ну, вот скажите, ниньо, разве не в психушке мы живем, ведь это ж не страна, а какая-то адская головоломка? Ну, как могло получиться, что одристы и апристы