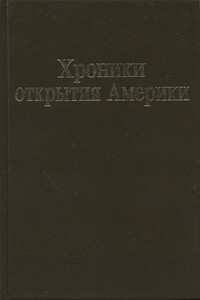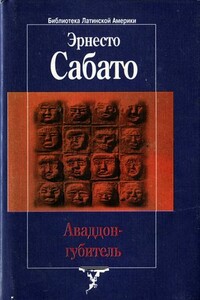— В полдень и по вечерам тут не протолкнуться, — сказал Хакобо. — После занятий весь университет сюда подваливает.
— Я хочу вам сразу сказать, — Сантьяго сглотнул, стиснул под столом кулаки, — чтобы вы знали: мой отец, ну, в общем, он — за режим.
Они замолчали и переглянулись, и переглядывание это продолжалось целую вечность. Сантьяго физически ощущал бег секунд и уже сожалел, что у него вырвалось это признание. Я ненавижу тебя, папа.
— Мне приходило в голову, что ты в каком-то родстве с этим Савалой, — сказала наконец Аида с печальной и сочувственной улыбкой. — Но не все ли равно: отец это отец, а ты — это ты.
— Самые великие революционеры были выходцами из буржуазных классов, — насупясь, ободрил его Хакобо. — Они порывали со своей средой и принимали идеологию пролетариата.
Хакобо привел несколько примеров, и, покуда взволнованный, думает он, благодарный Сантьяго рассказывал, какие схватки были у него с попами в гимназии, какие споры о политике кипели с отцом и одноклассниками, просмотрел лежавшие на столе книги: «Условия человеческого существования»[27] — интересно, но уж больно приземленно, а «Ночь миновала» вообще не стоит читать, автор — антикоммунист.
— Да нет, это же только в самом конце, — возразил Сантьяго. — Он разозлился на то, что партия не помогла ему вызволить жену от нацистов.
— Еще хуже, — объяснил Хакобо. — Сентиментальный ренегат.
— Разве революционер не имеет права быть сентиментальным? — спросила Аида, погрустнев.
Хакобо немного подумал и пожал плечами: наверно, имеет.
— Но хуже ренегатов ничего не может быть, — добавил он. — Вот возьмите АПРА. Революционер идет до конца, иначе это не революционер.
— Ты — коммунист? — спросила Аида так, словно хотела узнать, который час, и Хакобо на мгновение смешался: щеки его порозовели, он оглянулся по сторонам, прокашлялся, оттягивая время.
— Я — сочувствующий, — отвечал он осторожно. — Партия объявлена вне закона, войти с ними в контакт не так-то просто. И потом, чтобы стать коммунистом, надо многому научиться.
— Я тоже сочувствующая, — в восторге объявила Аида. — Как здорово, что мы встретились!
— И я тоже, — сказал Сантьяго. — Я плохо знаю марксизм, хотел бы разобраться получше. Да только где, как…
Хакобо поочередно заглянул им в глаза, впился в Сантьяго, потом в Аиду долгим, пронизывающим взглядом, словно прикидывая, достаточно ли они искренни и надежны, потом снова посмотрел по сторонам и подался вперед: есть один букинистический магазинчик, здесь, в центре. Он на него набрел совершенно случайно, зашел полюбопытствовать, пролистал кое-какие книжки, и тут вдруг обнаружились старые номера интереснейшего журнала — называется он, кажется, «Советская культура». Запрещенные книги, запрещенные журналы — Сантьяго увидел полки, набитые литературой, которая не продается в книжных лавках, томами, которые полиция изымает из библиотек. Под сенью изъеденных сыростью, покрытых паутиной стен, глухими ночами, при свете какой-нибудь самодельной плошки они будут изучать эти взрывоопасные книги, обсуждать их и конспектировать, делать рефераты, обмениваться идеями — читать, просвещаться, порывать с буржуазией, обретать и брать на вооружение пролетарскую идеологию.
— А еще журналы там есть? — спросил он.
— Кажется, есть, — ответил Хакобо. — Можем вместе туда сходить. Да хоть завтра.
— А еще можно пойти на какую-нибудь выставку или в музей, — предложила Аида.
— Конечно, — сказал Хакобо. — Я в Лиме ни в одном музее не был.
— И я, — сказал Сантьяго. — Пока занятия не начались, надо всюду побывать.
— Отлично: по утрам будем ходить в музеи, а потом пошарим у букинистов, — сказал Хакобо. — Я их много знаю, может быть, отыщется там кое-что интересное.
— Революция, книги, музеи, — говорит Сантьяго. — Видишь, до чего я был чист тогда?
— А я думал: это значит — без бабы обходиться, — говорит Амбросио.
— И еще в кино сходим, на что-нибудь стоящее, — сказала Аида. — Пусть буржуа Сантьяго нас пригласит.
— Стакана воды не дождешься, — сказал Сантьяго. — Ну, так куда мы завтра и когда встречаемся?
— Ну, сынок, — сказал дон Фермин. — Очень трудно было? Выдержал, как по-твоему?