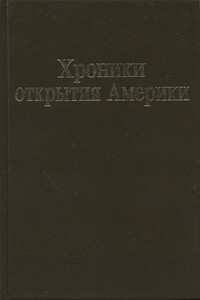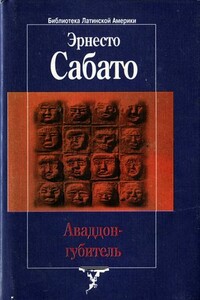— Усвоили, значит, — сказал Молина. — Пока не будет свистка, всем сидеть тихо. Только по сигналу. Сигнал — «Да здравствует генерал Одрия!». Кто подаст?
— Я подам, — сказал главный. — Я буду на галерке, как раз посередине.
— Тут, сеньор инспектор, вот какое дело, — прозвучал чей-то смущенный голос. — Они-то ведь тоже сложа руки не сидят, — готовятся. Я видал ихних людей, ездили на машинах, агитировали. Первостатейные ухорезы, сеньор инспектор. Взять хоть Аргельеса — матерый бандит, отпетый.
— Они и из Лимы выписали людей на подмогу, — сказал другой голос. — Человек пятнадцать, сеньор инспектор.
— Агенты, которых Молина уговорил, были неопытные, и нельзя сказать, чтоб так и рвались в драку, — сказал Лудовико. — Я-то сразу почуял: чуть что не так, они удерут.
— На всякий случай приготовлены штурмовые группы, — сказал Молина, — приказ им дан четкий. Так что попрошу не хныкать.
— Да вы не подумайте, сеньор инспектор, что мы боимся, — сказал первый голос. — Просто хотели, чтоб вы это поимели в виду.
— Ладно, понял, — сказал Молина. — Вот этот сеньор подаст сигнал, и вы все устроите небольшое землетрясеньице, оттесните всю публику на улицу, а там уж ее встретит наша демонстрация. Примкнете к «возрожденцам», а потом, после митинга на площади, соберетесь снова здесь.
Раздали еще водки и курева, а потом газеты, чтоб завернуть велосипедные цепи, дубинки, кастеты. Молина и главный всех осмотрели — спрячь поглубже, пиджак запахни, — а дойдя до Трифульсио, главный его подбодрил: ну, негр, вижу, ты молодцом. Угу, сказал Трифульсио, оклемался, а про себя подумал: мать твою так. С оружием повнимательней, сказал Молина, своих не перестреляйте. На улице ждали такси. Нам с тобой в эту, сказал Лудовико Пантоха, и Трифульсио полез за ним в машину. В театр приехали раньше остальных. У входа толпился народ, раздавали листовки, но в партере почти никого не было. Сели в третьем ряду, Трифульсио закрыл глаза: вот сейчас, сейчас лопнет, весь театр кровью запачкаю. Плохо тебе? — спросил этот, из Лимы. Да, неважно, сказал Трифульсио. Подходили попарно остальные, занимали свои места. Какие-то юнцы стали хором кричать: «сво-бо-да, сво-бо-да». Народу прибывало, зал был почти полон.
— Хорошо, что рано пришли, — сказал Трифульсио. — А то стоять бы пришлось, кому это нужно?
— Да, дон Кайо, началось, — сказал префект. — Да, почти полный. Да, сейчас, наверно, уже выходят с рынка.
Заполнился людьми партер, потом амфитеатр, потом ярусы, и опоздавшие пытались прорваться на сцену через кордон парней с красными повязками — они распоряжались и следили за порядком. А на сцене стояло десятка два стульев, микрофон, перуанский флаг, висели плакаты. Когда не шевелюсь, вроде отпускает, думал Трифульсио. «Сво-бо-да», — продолжали скандировать одни, а в задних рядах завели свое: «За-кон-ность, за-кон-ность». Слышались рукоплескания, крики «ура», все галдели, перекрикивая друг друга. На сцену вышли какие-то люди, стали рассаживаться. Их встретили овациями, крик сделался оглушительным.
— Чего это насчет законности, я не понял? — сказал Трифульсио.
— Требуют, чтоб разрешили партии, которые объявлены вне закона, — сказал Лудовико. — Здесь ведь, кроме толстосумов, еще и апристы с коммунистами.
— Я на многих митингах бывал, — сказал Трифульсио. — Вот в пятидесятом, помню, в Ике был с сенатором Аревало. Но всегда где-нибудь на площади, на воздухе. В театре первый раз.
— А вон там, в глубине, Иполито, — сказал Лудовико. — Дружок мой. Мы уж лет десять вместе работаем.
— Повезло тебе, что не страдаешь от горной болезни, такая пакость, — сказал Трифульсио. — Слушай, а ты-то чего кричишь?
— И ты кричи, — сказал Лудовико. — Хочешь, чтоб расчухали, кто мы?
— Мне не кричать велели, а выскочить на сцену, отсоединить микрофон, — сказал Трифульсио. — Тот, который знак подаст, — главный над нами, и он вот сейчас на меня смотрит. Он злой как черт, чуть что — оштрафует.
— Дурак ты, — сказал Лудовико. — Слушай, что я говорю: кричи «свобода» и хлопай.
Не верится, что отпустило, подумал Трифульсио. Низенький человечек — очки, галстук-бабочка — дирижировал теми, кто кричал «сво-бо-да» и объявлял ораторов. Называл их по имени, указывал на них, а публика встречала каждого громом рукоплесканий и криком. Кричавшие «сво-бо-да», явно соревновались с теми, кто кричал «за-кон-ность», кто кого переорет. Трифульсио повернулся посмотреть на своих, но все повскакали на ноги, почти никого уже не увидел. Главный, однако, был на месте, сидел, опершись на барьер галереи, а с ним еще четверо — зыркали глазами во все стороны, слушали.