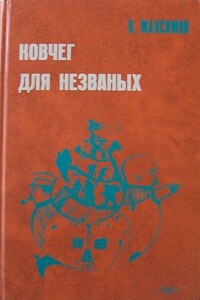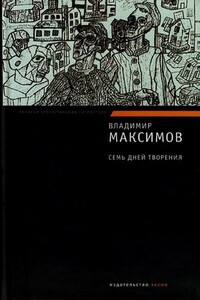В тот день он угощал нас обедом, мы много шутили и смеялись. Сестра Тани, которая стряпала на кухне, шепнула моей жене, когда та вышла к ней, что уже давно не слышала смеха Максимова. Улыбка сразу преображала его лицо: оно из неприступного делалось открытым, добрым. Конечно, я помню и кривые полуулыбки Максимова, свистящий бич его иронии. Он бывал язвителен, может быть, по большей части язвителен, и, если можно так выразиться, сатира брала верх в его смехе над юмором. Зато, когда душа его, не чувствуя опасности, распускалась, мягчела, Володю хотелось погладить по голове, как ребенка.
Отрывки, которые он передавал или посылал мне для печатания, были кусками из его нового романа. Он писал их, уже мало веря в то, что литература может что-то изменить в жизни. Это был его долг и неутихшая в душе тяга к перу и бумаге. Сейчас архив Максимова находится в одном из германских университетов (там он сохранится надежнее) и пока не разобран, но известно, что роман, который он не окончил, был по времени отнесен в прошлое — в годы гражданской войны. Как и его книга о Колчаке, это была дань памяти белому движению, белому казачеству.
По велению судьбы, вечным приютом Максимова стала могила белого офицера, летчика, полковника Евгения Владимировича Руднева, жившего с 1886 по 1945 год и похороненного на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа близ Парижа. На могиле стоит черный гранитный крест, вырубленный в Москве, и лежат живые цветы. «Ничего не забывается, — писал Максимов в «Прощании из ниоткуда», — ничего. Мы, словно листья одного дерева, даже опадая, сохраняем в себе его образ и подобие. Я твой, твой навсегда, мой Двор, мой Дом, мои Сокольники!.. До свидания, мати. Аминь».
О смерти Максимова я узнал в Финляндии, из газет. Как всякая смерть близкого человека, она стала нежданно свалившимся горем. Тоской отозвались во мне и некрологи, которые я прочитал в те же дни. Все, писавшие о Максимове, отдавали ему дань уважения, но были и оговорки: «Не все его многолетние друзья поддерживали его и одобряли его выступления» («Литературная газета»). «В последние годы не все его многолетние друзья были уверены в его правоте» («Русская мысль»). А журнал «Огонек», напечатавший портрет молодого Максимова, снабдил его комментарием: «На этой фотографии он еще совсем молодой, не патриарх и не борец с режимом (неважно, каким: коммунистическим, демократическим, буржуазным — в течение своей долгой жизни он боролся со всеми по очереди)… Но та народная слава, о которой он мечтал, так и не сбылась. Жаль».
Эта снисходительность и ирония (сегодня ирония стала проникать и в некрологи) поразили меня. Поразила интонация почти брезгливого превосходства. Так когда-то коммунистические доктора наук писали о классиках XIX века. Конечно, писали они, NN был большой писатель, но до нашего понимания вещей не возвысился, правильного мировоззрения не обрел. Они всегда знали, что правы только они, и похлопывали по плечу даже Толстого.
Наша свободная печать свободна только в поношении, но гремит своими цепями, когда речь заходит об идеале. Ибо ее идем — развенчание и ничто больше. «Бес иронии», как говорил Блок, «ломает» ее так же, как ломал до этого страх перед властью.
Максимов был человеком максимы. И если спросить себя, почему он взял этот псевдоним (ведь настоящее имя его Лев Самсонов), то не Максим Горький, которому он вначале подражал, тому причиной, и не пулемет «максим», из которого «красные» косили в фильмах нашего детства «белых», и даже не кинотрилогия о Максиме, которой он засматривался мальчиком, а именно максима, святая максима. Я убежден, что внезапно настигшая его болезнь и смерть явились оттого, что он не мог снести поругания своей мечты — мечты видеть Россию распрямившейся. Он увидел ее еще более согнутой, закабаленной, с повязкой на глазах, безумно, как слепцы у Брейгеля, влекущейся из темноты в темноту.
Со смертью его как бы оборвалась сильно натянутая струна — замер звук романтического форте. Принято считать, что расцвет романтизма падает на конец XVIII — начало XIX века. Но то был романтизм искусства и философии. Практический же, или политический, романтизм изжил себя к концу XX столетия. Поясню свою мысль. То, что произошло в начале века в России (я имею в виду 17-й год), было действие кроваво-романтическое.