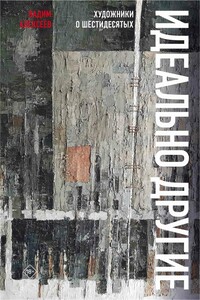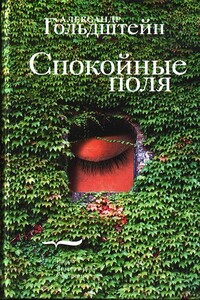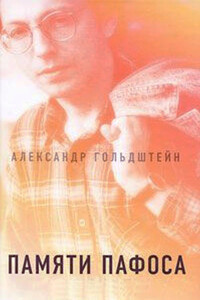Поэту не следует быть человеком. Не только теплым, но даже холодным, горячим. Ему лучше всего, как упомянутой француженке, совсем потерять человеческий облик. Чтобы вновь стать Великим Художником, то есть совпасть с новой эпохой, восход которой уже близок, он должен ошеломить своей святостью, ужаснуть «добротой», эротизировать непорочностью. Лишь на этих путях воспламеняется идеология поэтической жертвы.
Художнику нет резона прибегать к насилию, чтобы добиться утраченной власти и магии; насилие прямолинейно, оно враждует с воображением, его омассовленный успех заведомо ясен, как жульническая лотерея и однопартийные выборы. Жертва бесконечно таинственна, персональна, неизменно сложна, всякий раз происходит по непредусмотренным правилам, и никому не дано знать наверное, будет ли она принята или боги потребуют чего-то другого, еще более темного, священного и ужасного. Поэт очень долго был аккуратно остриженной собачонкой с поводком для прогулок и специальной едой. Но вскоре, дабы окончательно не исчезнуть, ему опять предстоит выводить слова и поступки собственным телом. Искусство и философия последних десятилетий все ходили и ходят вокруг феноменологии тела. Это потому, что только телесное прямо соприкасается с практикой жертвы. Если проткнуть слово, оно сейчас даже не пикнет, а тело по-прежнему реагирует на острое и холодное. Паскаль говорил, что готов поверить лишь тем свидетелям, которые дали себя зарезать. И это единственный путь для художника, желающего остаться в живых и воскреснуть из мертвых. Романтизм тут ни при чем, напротив, это глаголет ледяная обыденность, тривиальная алчба все того же идола Супермаркета, ибо нет других средств для того, чтобы за поэтом снова повторяли слова и собутыльники на античном пиру толкали бы друг друга в бок при его появлении — «смотри, это он!».
Конечно, словесности проще всего согласиться с незаметной, хотя и смердящей судьбой приживалки у электронных коммуникаций, потной рыбешкой снующей в прорехах кабельных неводов, — в таком случае ей действительно нечего терять, кроме заштопанной чести. Тем же, кто не привык просыпаться и засыпать с позором на губах и ресницах, надлежит приготовить себя к рискованным самоотдачам. Более двадцати лет назад немецкий создатель кино Вернер Херцог 21 день шел пешком по маршруту Мюнхен — Париж: эта дорога не столь привлекательна, как может показаться из окна поезда или автомобиля, — поздней осенью и зимой можно заработать воспаление легких, вообще масса неудобств и опасностей. Зачем понадобилась эта странная жертва? Тяжело заболела возлюбленная Херцога, и он понял, что спасти ее должно ритуальное действие, хождение между болезнью и выздоровлением. Так и случилось — подруга выздоровела. Потом он описал свое путешествие в холоде мокрых полей, грязных дорог, вдоль дождя, леса и как никогда ясных догадок о смысле земли, животных, пейзажей. Опыт ходьбы, созерцания и тихого, будто сеющий дождь, визионерства, опубликован по-русски, и кто возьмется сказать, какая участь его ждет в этом языке, в этой жизни: поучения, соблазна, примера? Херцог исчерпывающе доказал, что ритуал предшествует мифу и слово растет из обряда, из мистерии (пешего) перехода. Соединившись, они обретают целебную силу: не сострадающую — чудотворную. Они также становятся новым творческим жестом, и здесь, в этой самоотдаче, — открывающаяся художнику возможность спасения, преодоления смерти через испытание ею.
* * *
Осталось сказать несколько слов об отношениях литературы существования с Государством — именно с Государством, а не с истеблишментарными его институциями, уже упомянутыми выше. Писательская агрессия в адрес Левиафана некогда представлялась уместной и должной: прямая обязанность художника состояла в том, чтобы орать на чудовище, хладнокровно пожиравшее народы. Однако сейчас эти эмоции не проходят — они не только истрепались литературно, но и выглядят концептуальным анахронизмом, знаком незрелости. За минувшие десятилетия произошли потрясающие изменения. Левиафан под влиянием обстоятельств, о которых нет нужды говорить, воспринял разгромную критику и, чистосердечно раскаявшись, отказался — на сравнительно просвещенных пространствах — от большинства своих грязных привычек, в частности от хронического людоедства. Более того, голодовка и моральное изнеможение так ужасно его подкосили, что теперь уже он сам, а не его традиционная жертва, маленький человек, нуждается в полноценной защите со стороны художника и литературы, искусства. Сокрушительно подобрев, государство задышало на ладан, а его все терзают и рвут, все подносят к охрипшему горлу предмет поострее — пусть приголубит очередные меньшинства, решившие окончательно извести большинство.