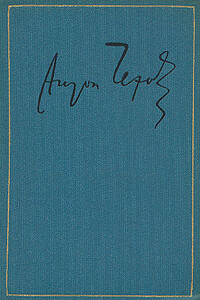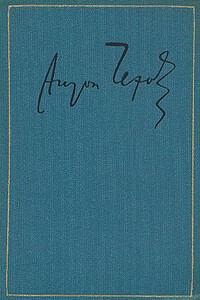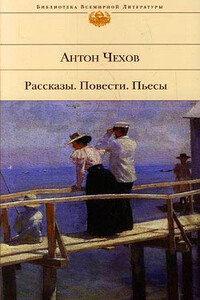– Какая досада! – сказал исправник, задумчиво глядя на Петра Михайлыча. – А я собирался провести у вас вечер. Куда же уехала Зинаида Михайловна?
– К Синицким, а оттуда, кажется, хотела в монастырь. Не знаю наверное.
Исправник поговорил еще немного и повернул назад. Петр Михайлыч шел домой и с ужасом думал о том, какое чувство будет у исправника, когда он узнает правду. И Петр Михайлыч вообразил себе это чувство и, испытывая его, вошел в дом.
«Помоги, господи, помоги…» – думал он.
В столовой за вечерним чаем сидела одна только тетка. По обыкновению, на лице у нее было такое выражение, что она хоть и слабая, беззащитная, но обидеть себя никому не позволит. Петр Михайлыч сел на другой конец стола (он не любил тетки) и стал молча пить чай.
– Твоя мать сегодня опять не обедала, – сказала тетка. – Ты бы, Петруша, обратил внимание. Морить себя будешь голодом, этим горю не пособишь.
Петру Михайлычу показалось нелепым, что тетка вмешивается в чужие дела и свой отъезд ставит в зависимость от того, что ушла Зина. Он хотел сказать ей дерзость, но сдержал себя. И, сдерживая себя, он почувствовал, что настала подходящая пора, чтобы действовать, и что терпеть долее нет сил. Или действовать сейчас же, или же упасть на пол, кричать и биться головой о пол. Он вообразил Власича и Зину, как они оба, либеральные и довольные собой, целуются теперь где-нибудь под кленом, и всё тяжелое и злобное, что скоплялось в нем в течение семи дней, навалилось на Власича.
«Один обольстил и украл сестру, – подумал он, – другой придет и зарежет мать, третий подожжет дом или ограбит… И всё это под личиной дружбы, высоких идей, страданий!»
– Нет, этого не будет! – вдруг крикнул Петр Михайлыч и ударил кулаком но столу.
Он вскочил и выбежал из столовой. В конюшне стояла оседланная лошадь управляющего. Он сел на нее и поскакал к Власичу.
В душе у него происходила целая буря. Он чувствовал потребность сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, резкое, хотя бы потом пришлось каяться всю жизнь. Назвать Власича подлецом, дать ему пощечину и потом вызвать на дуэль? Но Власич не из тех, которые дерутся на дуэли; от подлеца же и пощечины он станет только несчастнее и глубже уйдет в самого себя. Эти несчастные, безответные люди – самые несносные, самые тяжелые люди. Им всё проходит безнаказанно. Когда несчастный человек, в ответ на заслуженный упрек, взглянет своими глубокими виноватыми глазами, болезненно улыбнется и покорно подставит голову, то, кажется, у самой справедливости не хватит духа поднять на него руку.
«Всё равно. Я при ней ударю его хлыстом и наговорю ему дерзостей», – решил Петр Михайлыч.
Он ехал своим лесом и пустырями и воображал, как Зина, чтобы оправдать свой поступок, будет говорить о правах женщины, о свободе личности и о том, что между церковным и гражданским браком нет никакой разницы. Она по-женски будет спорить о том, чего не понимает. И, вероятно, в конце концов она спросит: «Причем ты тут? Какое ты имеешь право вмешиваться?»
– Да, я не имею права, – пробормотал Петр Михайлыч. – Но тем лучше… Чем грубее, чем меньше права, тем лучше.
Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Всё предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлыч переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде. В версте от церкви направо темнеет роща, это графа Колтовича. А за рощей начинается уже земля Власича.
Из-за церкви и графской рощи надвигалась громадная черная туча, и на ней вспыхивали бледные молнии.
«Вот оно что! – подумал Петр Михайлыч. – Помоги, господи, помоги».
Лошадь от быстрой езды скоро устала, и сам Петр Михайлыч устал. Грозовая туча сердито смотрела на него и как будто советовала вернуться домой. Стало немножко жутко.
«Я им докажу, что они не правы! – подбодрял он себя. – Они будут говорить, что это свободная любовь, свобода личности; но ведь свобода – в воздержании, а не в подчинении страстям. У них разврат, а не свобода!»