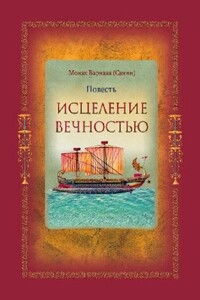— Что это? — бросил на меня ледяной взгляд их начальник.
— Не видишь, что ли, — ответил я. — Паренек убитый, нашел его посреди дороги.
— И куда же ты его тащишь?! — вызверился другой.
Повозка моя уже ползла вниз.
Я остановил кобылу и говорю:
— Куда-куда, хоронить!
— Никаких похорон партизану не положено! Голову — на кол, потроха псы растащат! — завопили жандармы и принялись стаскивать с него ранец, туристские ботинки.
Ни стыда, ни совести — догола раздели. Слез я на землю, взялся за поводья и говорю:
— Оденьте человека, грех это!
Не слышат меня, добычу делят. А их начальник уже вытащил нож, голову ему сечь.
— Стой! — заорал я во всю глотку.
Тот опешил.
— Чего вылупился, старый хрыч! А ну-ка подожми хвост, пока я башку твою не продырявил.
Стал я умолять его.
— Парень, убери нож! Мертвому — гроб, живому — добро!
Жандарм взялся за винтовку. Кровь ударила мне в голову. Подобрался весь и как закричу:
— Это ты, сукин сын, деда Илию надумал стращать?! На последней войне дед Илия семь раз на штык бросался!
А он целится в меня. Не знаю, чем бы кончилось, но мы остановились прямо над Ущельем, я толкнул кобылку, и задок повозки завис прямо над пропастью. Жандарм забыл о винтовке, побелел, как полотно. Остальные стали цепляться один за другого. Я нагнулся, подложил под переднее колесо камень, чтоб повозка не утянула всех этих скотов, и говорю:
— Пошевелитесь, не пожалею ни коня, ни телеги!
Жандармы и пикнуть боятся. Тогда я им командую:
— Одевайте паренька!
Задвигались потихоньку, словно свечки держат в руках. Одели партизана, обули ботинки на ноги, даже шнурки завязали. Потянул я кобылку. Она напряглась и вытащила повозку на дорогу. Вскочил я на козлы, хлестнул скотину и покатил вниз к селу. Хотел поскорее добраться до дома старосты, а там будь что будет! Боялся, что жандармы кинутся мне вдогонку. А они даже не рыпнулись — еще в себя не пришли после висения над Ущельем. У дома старосты я придержал кобылку. Только тогда они меня и взяли в оборот. Когда староста сообразил, чем тут пахнет, он отозвал их начальника в сторону и что-то сказал ему. Я только потом сообразил, что именно. Чтобы они отстали, он объявил меня тронутым. Да я на него не в обиде, другого способа помочь просто не было.
Жандармы оставили меня в покое, а партизана отдавать не хотели. Все рвались голову ему отсечь. Хорошо, что прибежал старшой и велел им бежать в управу, где их срочно звали к телефону. Убрались ко всем чертям головорезы, а староста и говорит мне:
— Дед Илия, вези и похорони этого паренька!
Снова потащился я в гору, развернул повозку перед домом и принялся сколачивать гроб. Потом выбрал место для могилы. Пока возился, солнце стало клониться к земле. Стащил я тело партизана с повозки, и тут он шевельнулся. Меня прошиб холодный пот. Я попятился назад. Паренек приоткрыл веки и едва слышно застонал. «Эх, Илия, — говорю я себе. — Что ж ты дергаешься, человече, не видишь разве — живой!» Эти хилые — они самые жилистые. Огляделся я вокруг и перенес паренька в дом. Пальцы ему отогревал, мокрые платки на лоб накладывал — очухался понемногу. К вечеру воды попросил. Напоил я его, вышел на двор и пустой гроб в могилу зарыл.
Две недели паренек пробыл у меня. На свой страх и риск, своими руками его выходил. На третью неделю дал я ему ломоть хлеба и кусок сыру и проводил подобру-поздорову. Он даже не сказал, как звать его. Таков уж был их партизанский закон — никому не называть своих имен.
Все было шито-крыто, да разве шило в мешке утаишь — эти изверги приперлись в село, сразу к старосте — где погребен труп? Староста и так и сяк юлил, но пришлось привести ко мне. Показал я им могилу. Начальник, тот, что рвался рубить пареньку голову, приказал копать.
— Что вы творите? — укорял их староста. — Он уже сгнил!
— Ничего, — заржал жандарм. — Голова как раз для кола созрела.
И за лопаты, а я молчу. Когда добрались до гроба и открыли крышку, я похолодел. Такого чуда, парень, тебе не приходилось видеть. Целый час стояли староста и жандармы как вкопанные перед пустым гробом, словно языки проглотили. Потом начальник их схватил меня за грудки.