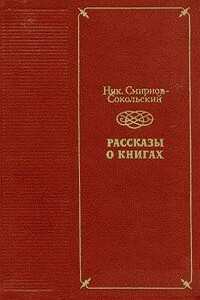Журнал давал убыток, хотя сотрудничество подавляющего большинства участников было бесплатным. Людей, желавших сохранить комплекты «Иртыша» в своих библиотеках, в Сибири было, очевидно, совсем мало, и журнал исчез с книжного рынка.
После прекращения издания журнала, по распоряжению Алябьева было решено несколько полных его комплектов представить в дар «разным знаменитым особам, пребывающим в Санктпетербур–ге и Москве». Особами, которым было определено подарить «Иртыш, превращающийся в Ипокрену», были П. В. Завадовский, Г. Р.Державин, О. П.Козодавлев, Е. Р.Дашкова, И. В.Гудович, Н. П.Шереметев, П. В.Лопухин и М. М.Херасков.
Все восемь комплектов решено было предварительно переплести в зеленые сафьяновые переплеты с золотым обрезом, на что было истрачено 120 рублей ассигнациями за счет Тобольского Приказа общественного призрения.
Один из этих комплектов (которых, возможно, было заготовлено больше) попал в мою библиотеку. Любопытно, что нашелся он не сразу, а по томику из разных книжных лавок и в течение более десятка лет. В комплекте шесть томов, по четыре номера в каждом.
По сведениям В. Семенникова, годом позже начала издания журнала «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» в той же тобольской типографии Корнильева печатался другой журнал, значительно менее интересный, носивший название «Журнал исторический, выбранный из разных книг». Издавался он в 1790 году, и вышло его две части по 13 печатных листов в каждой. Этого журнала нет ни в одном хранилище.
По окончании издания «Иртыша» П. П. Сумароков в течение 1793 и 1794 гг. издавал уже самостоятельно другой журнал, под названием «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная, историческая и увеселительная в пользу и удовольствие всякого звания читателей». Вышло ее 12 частей, но журнал этот к теме настоящего рассказа уже отношения не имеет.
Возвращаясь к первенцу русской сибирской журналистики «Иртышу, превращающемуся в Ипокрену», нельзя не подивиться мужеству сотрудников его — Сумарокова, некоторых других и, в особенности, прокурора Бахтина, не убоявшихся выступать в то время против крепостного права. Общий либеральный порядок, заведенный в Тобольске наместником А. В. Алябьевым, играл здесь не последнюю роль.
Читая такие, например, бахтинские строки, обращенные к дворянам, как:
«А вы, что за скотов, подобных вам приемля,
Ни бедных жалобе, ни воплю их не внемля,
Употребляя власть вам данную во зло,
На всяк час множите несчастливых число…»,
Или такую эпиграмму:
«Как будто за разбой вчерашнего дня, Фрол,
Боярин твой тебя порол;
Но ништо, плут тебе! Ведь сек он не без дела:
Ты чашку чая нес, а муха в чай влетела!»
— невольно думаешь, что за нечто подобное литераторов из Петербурга и Москвы в то время, не стесняясь и не медля, высылали в Сибирь. Не было ли причиной подобного послабления сибирякам, что их уже высылать было некуда? Не наоборот же — в Петербург или в Москву?
«ФЕАТР ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ»
Книга эта, изданная в Петербурге в год выхода в свет радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790), имеет, по обычаю времени, длиннейшее многословное название: «Феатр чрезвычайных происшествий истекающего века, открыт и представлен очам света в следующих созерцаниях: Проказы езуитов и францисканских монахинь; Странное приключение одного маркиза при целовании папского туфля; Гибельная участь дочери французского купца; Злость священника; Невинно повешенный, получивший жизнь; Бродящее мнимое приведение по ночам; Посрамленное легковерие ученых; Уничтоженная гордыня гишпанца на Руси; Разврат учителя француза; Плоды коварства; Храбрость росса; Посрамление невежды и проч.»
Далее стоят какие–то непонятные инициалы: «Т… П… О…» и идут выходные данные книги: «С дозволения управы благочиния, во граде св. Петра, печатно при императорской типографии 1790 года»1.
Года через два после того, как я приобрел эту книгу, я встретил другой экземпляр этой же книги, несколько отличный от имеющегося у меня первого. Книга была напечатана на лучшей бумаге, и вместо непонятных инициалов на заглавном листе на обороте его значилось: «Издание Главного Народного Санктпетербургского училища учителя Павла Острогорского».