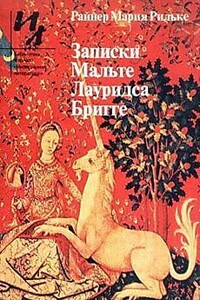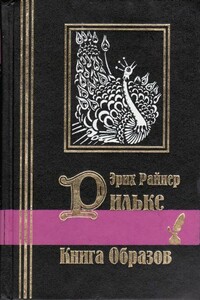- A Palazzo Franchetti! [Дворец Франчетти (итал.)] - воскликнул он.
- А Са d'Oro![Золотой дворец (итал.)] - подхватил я.
- Рыбный рынок!
- Palazzo Vendramin! [Дворец Вендрамин (итал.)]
- Где Рихард Вагнер... - не преминул он вставить, как образованный немец.
Я кивнул:
- A Ponte[Мост (итал.)], помните?
Он понимающе улыбнулся:
- Ну как же, и музей, разумеется, и академия, незабываемая академия, где Тициан ...
Господин Баум решил, видимо, подвергнуть себя экзамену, и довольно строгому. Мне захотелось вознаградить его историей, и я без долгих предисловий начал:
- Если проехать под Ponte di Rialto [Мост Риальто (итал.).], мимо Fondaсо de'Turchi [Дворец Турчи (итал.)] и рыбного рынка, и сказать гондольеру: "Направо", то он удивленно посмотрит на Вас и, скорее всего, переспросит: "Dove?" [Туда? (итал.)]. Но надо настоять, чтобы он повернул направо, выйти в одном из маленьких грязных каналов, ругаясь поторговаться с ним и тесными проулками и черными закопченными переходами пройти на широкую пустынную площадь. И все это только ради того, что там произошла моя история.
Господин Баум легонько тронул меня за руку:
- Простите, какая история? - Его маленькие глазки тревожно бегали туда-сюда.
Я успокоил его:
- Просто история, уважаемый господин Баум, вряд ли стоит давать ей особое название. Я даже не могу сказать Вам, когда это было. Возможно, при доже Альвизе Мочениго Четвертом, но могло быть и несколько раньше или позже. Картины Карпаччо, коль скоро Вы их видели, написаны словно по пурпурному шелку, повсюду в них, точно сквозь ветви в лесу, пробивается что-то теплое, а вокруг приглушенных огоньков теснятся прислушивающиеся тени. Джорджоне писал по старой выцветшей позолоте, Тициан по черному атласу, - но во времена, о которых я говорю, любили светлые картины на белом шелковом полотне, а имя, которое играло у всех на устах, которое звонкие голоса уносили к солнцу, и оно падало из сверкающей лазури в прелестные ушки, это имя было: Джан Баттиста Тьеполо.
Но моя история не об этом. Все это относится к настоящей Венеции, городу дворцов, приключений, масок и бледных ночей над лагуной, в которых так широко разносятся звуки тайных серенад. - В той же части Венеции, о которой пойдет речь, не услышишь ничего, кроме убогой повседневности; все дни там на одно лицо, а песни звучат, как растущие жалобы, которые не воспаряют, но оседают в переулках вместе с клубами сажи. В сумерках повсюду шныряет всякий сброд; бесчисленные дети с утра до ночи копошатся на площадях и в узких холодных дверных проемах и играют черепками и осколками цветного стекла, того самого, из которого мастера сложили величественную мозаику Сан-Марко. Благородные синьоры редко заходят в гетто. Разве только в час, когда еврейские девушки собираются у фонтана, можно иногда заметить фигуру в черном плаще и маске. И кое-кто по опыту знает, что в складках плаща прячется кинжал. Еще кто-то уверяет, будто однажды при свете месяца разглядел лицо этого юноши, и теперь ходит слух, что этот черный стройный гость - не кто иной, как Маркантонио Приули, сын Proveditore Николо Приули и прекрасной Катарины Минелли. Известно, что он выжидает под воротами дома Исаака Россо, потом, если поблизости никого нет, пересекает площадь и входит к старому Мельхиседеку, богатому ювелиру, у которого множество сыновей, семь дочерей и бесчисленные внуки. Самая юная внучка Эстер ждет его, прильнув к старцу, в низком сумеречном покое, в котором повсюду что-то блестит и сверкает, и шелк и бархат нежно касаются драгоценных сосудов, словно желая утишить их тяжелое пламенеющее сияние. Здесь Маркантонио садится у ног престарелого еврея на расшитые серебром подушки и начинает рассказывать о Венеции как о чуде, равного которому не было никогда и нигде. Он рассказывает о зрелищах, о битвах венецианского войска, о чужеземных гостях, о картинах и скульптурах, о "Sensa" в дни вознесения, о карнавалах, о красоте своей матери Катарины Минелли. Для него все эти вещи одной природы: лишь разные выражения воли, любви и жизни. Но обоим его слушателям все это чуждо; ведь евреи строго изолированы от города, и даже богатый Мельхиседек никогда не заходит в район Большого Совета, хотя он, ювелир, заслуживший всеобщее уважение, вполне мог на это отважиться. За свою долгую жизнь старик добился от синьории немалых послаблений для своих единоверцев, которые любили его как отца, но каждый раз после этого ему приходилось испы-тывать новый удар. Лишь только на республику обрушивалось какое-нибудь несчастье, оно тут же вымещалось на евреях; венецианцы сами слишком родственны евреям по дуxy, чтобы, как другие народы, использовать их для торговли, и они терзали их поборами, отнимали их добро и все больше урезали землю гетто, так что семьям, неудержимо разраставшимся в самом средоточии нужды и бедствий, приходилось строить свои дома один на другом, все выше. И их поселок, удаленный от моря, медленно тянулся к небу, словно к другому морю, и площадь с фонтаном со всех сторон окружили отвесные стены, словно это была гигантская башня. Богатый Мельхиседек сделал своим согражданам, сыновьям и внукам странное предложение, которое все сочли причудой патриаршего возраста. Он пожелал все время жить в самом высоком из этих крошечных домиков, бесчисленными этажами лепившихся друг на друге. Но его прихоть выполнили тем охотнее, что люди не надеялись на прочность нижних этажей и наверху клали настолько легкий камень, что ветер, казалось, не обращал никакого внимания на стены. Так что старик два или три раза в год переселялся в новое жилище, всегда вместе с Эстер, которая не хотела с ним расставаться. Наконец они оказались так высоко, что когда они выходили из тесной комнаты на плоскую крышу, на уровне их глаз начиналась другая страна, и старик какими-то диковинными словами, словно распевая псалмы, говорил о ее обычаях. Теперь подниматься к ним приходилось очень долго; нужно было пройти через многие чужие жизни, по крутым и скользким лестницам, мимо сварливых женщин и цепких голодных детей, и все это делало почти невозможным любой визит. Маркантонио тоже перестал их навещать, и Эстер едва ли жалела об этом. В те часы, когда она бывала с ним наедине, она так долго и пристально глядела на него, что ей стало казаться, будто он погрузился на самое дно ее темных глаз и умер там, и теперь внутри нее началась его новая, вечная жизнь, в которую ведь он, христианин, верил. С этим новым ощущением в ее юном теле она по целым дням стояла на крыше и пыталась отыскать море. Но несмотря на всю высоту строения, оттуда можно было различить сначала лишь фронтон Palazzo Forscari [Дворец Форскари (итал.)], какую-нибудь башню, купол церкви, подальше еще один, словно застывший в ледяной лазури, и наконец - переплетение мачт, балок, штоков, за которыми уже кончалось влажное, мреющее небо.